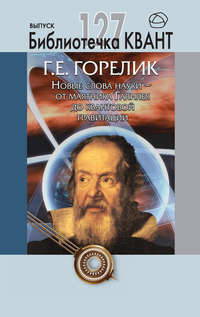Полная версия
Андрей Сахаров. Наука и Свобода
Российский путь к термоядерному солнцу начался в здании, построенном для Лебедева перед революцией. В этом здании, в Физическом институте Академии наук им. П. Н. Лебедева, в конце 1940-х годов изобрели советскую водородную бомбу. По иронии истории именно тогда именем Лебедева орудовали казенные патриоты в их борьбе с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом». А в Московском университете диссертацию о Лебедеве написал штатный сотрудник органов цензуры, которые вместе с другими компетентными органами следили за благонадежностью советской науки.
Не надо винить в этом замечательного российского физика. Как не надо и защищать его от самозваных патриотов образца 1911 года, обвинявших Лебедева в том, что в доме подозрительного поляка на еврейские деньги он создал странную лабораторию, в которой занимается неизвестно чем[7].
Наследие Лебедева и Короленко
Как видно из эпиграфа к этой главе, Лебедев оставил в наследство не только науку, но и нравственный эталон российской интеллигенции.
Это было странное сословие. Само слово «интеллигенция», несмотря на латинскую внешность, пришло в европейские языки из России в начале ХХ века, накануне драматических событий в Московском университете. Новое слово понадобилось европейцам, чтобы назвать то, чего у них не было. Люди, занятые интеллектуальным трудом, в Европе, конечно, были, но их не объединяло чувство моральной ответственности за происходящее в обществе. Причина не в какой-то особой нравственности россиян, а в социальных обстоятельствах России. «При господствующих здесь условиях, которые для европейца представляются совершенно невероятными и непонятными, – писал Лебедев своему европейскому коллеге, – я должен отказаться здесь от своей карьеры физика»[8]. Этот российский интеллигент счел своим долгом оставить любимое дело, дело всей жизни. Понять такой выбор европейцу было нелегко.
Российская интеллигенция формировалась вместе с включением России в жизнь Европы в XIX веке. К началу ХХ столетия можно было говорить о единой европейской культуре с весомым российским вкладом. Язык русской музыки звучал по всей Европе, книги Толстого и Чехова входили в европейскую жизнь уже спустя несколько лет после своего рождения. Общность культурных ценностей укреплялась живыми контактами: российские границы были открыты для людей интеллигентного сословия. Но социальные контрасты в России достигали азиатского масштаба. Крепостное рабство отменили много позже, чем в Европе, и наследие несвободы ощущалось гораздо сильнее. Анахроничное самодержавие препятствовало свободному выражению общественных взглядов. В таком обществе европейски просвещенный интеллектуал становился российским интеллигентом, острее других чувствующим социальные контрасты и свой моральный долг.
Так что к рождению интеллигенции привели два обстоятельства – значительная интеллектуальная свобода образованных людей и почти полное отсутствие политических свобод. Советская власть, уничтожив первую предпосылку, способствовала тому, что интеллигенция, словами Сахарова, «так измельчала». А политической свободой общества, или подлинно представительнам народовластием, историческая роль российской интеллигенции, вероятно, исчерпается.
В царское время, когда налицо были обе предпосылки, российские интеллигенты, разумеется, по разному отвечали на общественные вызовы, в зависимости от жизненного опыта, темперамента, душевной чуткости. Коренным вопросом был путь развития России, о котором спорили славянофилы и западники в XIX веке и о котором – в год рождения Лебедева – поэт Тютчев сказал знаменитые слова:
Умом Россию не понятьАршином общим не измерить:У ней особенная стать –В Россию можно только верить.Такой ответ на вопрос о будущем России не устраивал людей естественнонаучной ориентации, без колебаний сменивших русский аршин на европейский метр.
Другой, трагический, ответ прогремел в 1881 году, когда «лучшие люди России убили лучшего в истории России царя» – Александра II, отменившего крепостное право. Независимо от характера ответа, сама моральная ответственность российского интеллигента – или его социальные амбиции, как подумал бы скептический европеец, – своим источником имели нравственное чувство, порожденное теми невероятными для европейца условиями, о которых писал Лебедев.
Русское слово «интеллигенция» лишь на несколько десятилетий старше его европейской версии intelligentsia. Слово родилось вскоре после отмены крепостного рабства, когда, благодаря социальным реформам само интеллигентное сословие стало быстро расти, в первую очередь за счет разночинцев – выходцев из разных сословий, получивших образование. Интеллигенты в первом поколении – каким был и Лебедев, – легко убеждались, что аристократия духа не наследственна. Требовались знания, интеллект, а не родословная. Это время совпало с мощным рывком европейского естествознания. У российского интеллигента все это складывалось в ощущение общественного развития, научного и социального прогресса и своей ответственности за происходящее вокруг.
Многое можно понять в той эпохе, если помнить что она вместила в себя жизнь Льва Толстого. Это он привлекал идеи-образы из физики, размышляя о законах истории и о философии свободы. Его задевал спор славянофилов и западников, но обе позиции были ему тесны. Войдя в историю мировой литературы, он отрекся от своих сочинений. Крупнейший писатель дореволюционной России отказался от дела своей жизни совсем иначе, чем это сделал крупнейший физик: один взялся учить человечество, другой хотел учить лишь своих студентов, а главное – хотел добывать новое научное знание о мире. Но внутренне оба отказа были продиктованы нравственным чувством, возмущенным «господствующими условиями» российской жизни. И это яснее говорит о тогдашней России, чем анализ ее социальной статистики.
Не только граф Толстой, отлученный от государственной церкви в 1901 году, видел современную ему Россию в мрачных тонах. Так же смотрел на нее и другой граф – вполне государственный человек Сергей Витте, первый конституционный премьер-министр Российской империи, который пытался совместить авторитарное правление и динамичную модернизацию. В докладе императору в 1905 году он признал, что народные волнения, сотрясавшие в то время империю, «не могут быть объяснены ни частичными несовершенствами существующего строя, ни одной только деятельностью крайних партий». Корни этих волнений лежат глубже – «Россия пережила формы существующего строя… и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы»[9]. Это была неприятная истина для самодержавия. И, едва оправившись от испуга после революционного взрыва 1905 года, самодержец всея Руси отправил в отставку премьер-министра, говорящего неприятные вещи.
В наступившее вслед за этим время, официально провозглашенное «периодом обновления», новым явлением стала смертная казнь. «Еще никогда, быть может со времени Грозного, Россия не видала такого количества смертных казней», – это из статьи писателя Владимира Короленко[10]. В статье рассказывается о новой социальной группе, «которой тюремный жаргон присвоил зловещее название «смертники» и в которой смешались выходцы из всех слоев российского общества – снизу доверху».
Казнены были в те годы тысячи человек. «Всего лишь» тысячи. Кровопролитие, ожидавшее Россию через несколько лет, сопоставимо с этим не по объему, а лишь по цвету крови. Революционеры вместе с горьковским Буревестником радостно предвкушали: «Буря! Скоро грянет буря!» Однако зоркие интеллигенты понимали, какие смертоносные дрожжи бросаются в российское общество. Интеллигент Короленко этого вовсе не хотел, хотя и понимал природу социальных буревестников. Он видел, что сознание «так дальше жить нельзя» «властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии» – стихийной анархии рука об руку с разбоем.
Этого страстно не желал для России и Лев Толстой. Прочитав статью Короленко, он весной 1910 года написал автору, что старался, но не мог удержать рыдания. Толстому не надо было раскрывать глаза. За четыре года до того он написал рассказ «Божеское и человеческое», опубликованный в сборнике «Против смертной казни», одним из составителей которого был адвокат Иван Сахаров, дед Андрея Сахарова[11]. Толстому чужды были и насильственное переустройство общественной жизни, и косное самосохранение существующего способа власти. Вглядываясь в революционное противление государственному злу, Толстой сочувствовал нравственным корням этого противления, хотя видел и корни безнравственные. Он верил лишь в духовный путь усовершенствования общества. Однако, видя, как первые шаги к «строю правовому на основе гражданской свободы» сменились привычным тупым насилием, исходящим прежде всего от правительства, писатель-моралист не выдержал – написал и нелегально опубликовал статью «Не могу молчать». Некоторые его последователи сочли, что эта статья, полная обличений власти, не совместима с его собственным учением о непротивлении злу насилием.
Но нравственное чувство Толстого оказалось сильнее его моральной философии. Подобно этому нравственное чувство Лебедева оказалось сильнее его политического скептицизма. Судьба физика Лебедева и более прямым образом связалась с судьбою писателя Толстого. Не вынеся нравственного разлада с современным ему обществом, со своими близкими и с самим собой, 82-летний Лев Толстой покинул свой дом, заболел и умер на железнодорожной станции Астапово в конце ноября 1910 года. Смерть писателя повлекла за собой студенческие волнения, давшие полиции повод вторгнуться в жизнь Московского университета, что и привело к отставке его лучших профессоров в феврале 1911 года. Так аполитичный физик Лебедев оказался вовлечен в политику.
Студенческие волнения в Московском университете – знак эпохи, переживаемой тогда Россией. В 1912 году Московский университет окончил отец Андрея Сахарова. В Елизаветграде, далеко от обеих российских столиц, гимназию оканчивал сын инженера Игорь Тамм. К восемнадцати годам юноша, проявивший способности к точным наукам, начитался социалистической литературы и стремился к политике. Зная страстный характер сына, родители настояли, чтобы он поехал учиться за границу – подальше от беспокойных российских университетов. И будущий учитель Сахарова свой первый студенческий год провел в шотландском Эдинбурге.
То был последний мирный год России.
Затем грянула Первая мировая война. Ее кровавый опыт предопределил русскую революцию, переросшую в Гражданскую войну.
Все это вместилось во второе десятилетие ХХ века России. А в самом начале следующего десятилетия, в 1921 году, в России родился Андрей Сахаров.
Глава 2. Рождение ФИАНа
Сахаровы в Советской России
Жизнь Андрея Сахарова совпала с эпохой советской власти. В год его рождения новая власть окончательно установилась, а в год смерти – в 1989-м, – состоялись первые «несоветские» выборы, которые привели гуманитарного физика в парламент страны. В ту эпоху естествознание стало одной из главных социальных сил, а взлет советской физики в особенности неотделим от советской истории. Имена математика Лобачевского и химика Менделеева прославились еще в XIX веке. Но ядерно-космические достижения страны дореволюционным наследием не объяснить – физика расцвела именно в советское время. Впрочем, к 1921 году – к окончанию Гражданской войны, – России было, казалось, совсем не до науки.
Жизнь всякой семьи вплетается в историю страны, – или ломается в переломные годы. Уцелевшие документы позволяют увидеть, как история вмешивалась в жизнь родителей Андрея Сахарова, но не помешала ему появиться на свет в атмосфере семейной любви и дружбы[12].
23 февраля 1917 года со стихийных возмущений населения в длинных голодных очередях началась Февральская революция. Через неделю царь отрекся от престола, и самодержавие рухнуло.
На этой самой неделе старшая сестра Кати Софиано записала в своем дневнике:
«Нынче у мамы встретила какого-то учителя физики Дмитрия Ивановича, невыразимо некрасивого, неловкого. Хороши только глаза – милые, добрые, чистые. Катя влюблена и он в нее до такой степени, что не могут и, кажется, не хотят это скрыть. Приятно и радостно на них смотреть».

Дмитрий Сахаров и Екатерина Софиано – родители Андрея Сахарова
Двадцативосьмилетний преподаватель физики Дмитрий Сахаров был сыном адвоката и внуком потомственного священника. Двадцатичетырехлетняя Катя – дочь потомственного военного. Родители влюбленных принадлежали к разным слоям образованного русского общества. И дело не в том, что с одной стороны это был чисто дворянский род, а с другой только наполовину – к 1917 году это уже не имело особого значения. Важнее разное отношение к власти. Предки Андрея Сахарова по материнской линии исправно служили государству. А по отцовской – осуществляли власть духовную, пока не усомнились, что всякая власть от Бога. Родители Дмитрия в молодости более десяти лет состояли под негласным надзором полиции, пережили обыски и даже арест, что, однако, не помешало деду Андрея – Ивану Сахарову – стать адвокатом. А как только в 1905 году в России забрезжил свет легальной политической жизни, он принял участие в создании Конституционно-демократической партии, назвавшей себя «Партией народной свободы».

Иван Сахаров и Мария Домуховская – дед и бабушка Андрея Сахарова – в 1882 году
Эти «Иван да Марья» не только носили показательно русские имена, но и показательно представляли русскую интеллигенцию.
Иван родился в семье священника (в третьем поколении), но никто из его десяти братьев и сестер не был профессионально связан с церковью. Все получили образование – врача, учителя, инженера, юриста, агронома.
Мария происходила из старинного дворянского рода, воспитывалась в Павловском институте в Петербурге. Через свою институтскую подругу познакомилась с участниками народнической организации «Народная воля» и помогала им.
Очевидное вольномыслие Ивана (рука в кармане), соединенное с юридическим образованием и профессией адвоката, сделали его двадцать лет спустя активным членом «Партии народной свободы» (Конституционно-демократическая партия).
Свободомыслие обоих проявилось в семейной жизни. Они обвенчались после 18 лет совместной жизни, когда уже родились все шестеро их детей.
Андрей рос в доме, душой которого бабушка – человек «совершенно исключительных душевных качеств: ума, доброты и отзывчивости, понимания сложностей и противоречий жизни». Бабушка читала ему первые книги. Бабушка читала ему Евангелие. С ней он обсуждал «почти каждую страницу» книг Толстого, которые читал сам.
Дед Андрея по материнской линии Алексей Софиано происходил из греческих эмигрантов, ставших русскими дворянами еще при Екатерине II и верно служивших новому Отечеству в дни войны и мира. Офицер-артиллерист, воевавший на сопках Маньчжурии, он вышел в отставку по возрасту. От первого брака у него было трое детей – Владимир, Константин и Анна, – а от второго в декабре 1893 года родилась дочь Екатерина.

Алексей Софиано – дед Андрея Сахарова с материнской стороны, 1905
В своих воспоминаниях Сахаров писал: «С детских лет моя мама помнила солдатские и украинские песни, хорошо ездила верхом. Она получила образование в Дворянском институте в Москве. Это было привилегированное, но не очень по тому времени современное и практичное учебное заведение – оно давало больше воспитания, чем образования или, тем более, специальность. Окончив его, мама несколько лет преподавала гимнастику в каком-то учебном заведении в Москве. Внешне, а также по характеру – настойчивому, самоотверженному, преданному семье и готовому на помощь близким, в то же время замкнутому, быть может даже в какой-то мере догматичному и нетерпимому – она была похожа на мать – мою бабушку Зинаиду Евграфовну. От мамы и бабушки я унаследовал свой внешний облик, что-то монгольское в разрезе глаз (вероятно, не случайно у моей бабушки была «восточная» девичья фамилия – Муханова) и, конечно, что-то в характере: я думаю, с одной стороны – определенную упорность, с другой – неумение общаться с людьми, неконтактность, что было моей бедой большую часть жизни».
К 1917 году различие двух семейных традиций устранилось самой жизнью – недаром Февральская революция была столь мирной. Недееспособность самодержавия стала видна и военным профессионалам – попытка царских властей подавить стихийные народные возмущения силой не удалась, военные просто отказались повиноваться. Российская интеллигенция с энтузиазмом приняла установление республики и демократических свобод. Красные банты надевали люди весьма далекие от политики и тем более от марксизма. Для многих из них впоследствие слово «красные» стало бранным, и этот свой весенний пыл 1917 года в России они вспоминали с недоумением. Западному человеку, не знающему русского языка, понять это еще труднее. Среди отличий русского языков от европейских одно имеет прямое отношение к политической истории. Русское слово «красный» – архаичный, но живой синоним слов «красивый, прекрасный», и название Красной площади в Москве несет именно этот смысл; а «белый» имеет, скорее, отрицательный привкус («белоручка»). Возможно, это азиатское наследие: в традиционной китайской опере, например, положительные герои одеты в красное, отрицательные – в белое.
«Белые» как политический термин возник лишь после того, как страной стали править «красные». После восьми месяцев демократической, но неэффективной государственной власти, в октябре 1917 года большевики установили свою диктатуру – во имя мировой революции и всеобщего коммунистического счастья. Вскоре после Октябрьского переворота большевики запретили Конституционно-демократическую партию, и видные ее деятели, опасаясь репрессий, покинули «красную» часть России. Среди них был и Иван Сахаров; в начале 1918 года он с женой и младшим сыном уехал из Москвы на Северный Кавказ, где у них в Кисловодске был собственный дом.
Другой дед Андрея Сахарова, генерал-лейтенант Алексей Софиано, тоже ничего хорошего не мог ждать от большевиков. В январе 1918-го его дочь Анна, старшая сестра Кати, записала в дневнике: «Вечером была мама. Им нечем жить. Жалование и пенсию у папы отобрали. Их четверо. Мы зовем их к себе в нашу квартиру, а чтоб свою они сдали…» (мужем Анны был профессор консерватории Александр Гольденвейзер). В конце февраля появилась запись: «Нынче к нам переехала сестра Катя…. Их положение материально очень трудное…. В квартире опять холод 8 градусов, есть нечего, дают по 1/8 фунта хлеба в день на человека. Мы съели уже всю крупу. Осталось немного рису и картофелю. Что будет дальше?»
А дальше – через несколько месяцев после захвата власти, – большевики переименовали свою партию в коммунистическую, и начался период, названный «военным коммунизмом»: конфискация собственности, фактическая отмена денег, введение принудительного труда. Созданные новым режимом служба госбезопасности и Красная армия беспощадно подавляли разноцветных противников – белых, зеленых, желто-голубых, а также недостаточно красных… Началась Гражданская война.
Большевики, в апреле 1917-го образовав самостоятельную партию – Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков), или РСДРП (б), в марте 1918-го переименовали себя в РКП(б).[13] К концу Гражданской войны они могли назвать себя просто Партией, с заглавной буквы, как нечто единственное в своем роде. К тому времени все другие партии были запрещены и остались важны лишь для органов госбезопасности. То что Партия еще дважды меняла свое название на ВКП(б) и КПСС, а органы – еще чаще (ЧК, ГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ), не меняло структуру государственной власти, сосредоточенной в руководстве ЦК Партии, вооруженном карательными органами.
Во время Гражданской войны от карающего меча, разрухи и голода погибли многие миллионы. Спасаясь от бедствий, около двух миллионов покинули страну. Вполне возможно, что эмигрантом стал бы и Иван Сахаров, если бы в декабре 1918-го он не умер от тифа.
Кажется удивительным, что и в таких обстоятельствах можно было слушать музыку, читать, жениться и рожать детей, как об этом писала в дневнике Анна Гольденвейзер: муж играет Грига «и так хорошо играет», «одно утешение – Герцен»… 7 июля 1918 года «в два часа дня была Катина свадьба с Дмитрием Ивановичем Сахаровым». «Чудная погода, яркое солнце, все в белом, пешком шли в церковь «Успенья на могильцах», старый старик священник на них ворчал «Отодвиньте свечку» и совершенно затуркал Дмитрия Ивановича. Красивый длинный стол, убранный полевыми цветами, хорошенькая душенька Катюша».
Буря Гражданской войны унесла молодоженов из Москвы на юг России: «Митя служит учителем и кроме того по вечерам играет в синематографе. Зарабатывает порядочно, но денег не хватает на самое необходимое…»
Вернулись они в Москву в середине 1920 года, а 21 мая следующего года «в 5 ч утра у сестры Кати родился сын… Вчера в 3 ч дня ее свезли в клинику на Девичье поле. …Катя счастлива бесконечно, прислала мужу такие женственно ласковые, счастливые письма, что я удивляюсь тому, как он мог их нам читать. Верно от полноты счастья… Он страшно возбужден, совсем не похож на себя повседневного». Десять дней спустя: «Мы оба [с мужем, крестным отцом ребенка А. Б. Гольденвейзером] каждый день бегаем смотреть на маленького Андрюшу. Очень славный мальчик. Нынче первый день, что я его не видела».
Письмо, которое мать малыша вскоре написала сестре, говорит, что семейное счастье не обязано быть сплошной идиллией:
«Андрюша мне дал такое счастье и такой духовный мир, что все смутное и жестокое ушло в далекое, далекое прошлое, но это случилось не сразу и еще, приехав из клиники, я не вдруг нашла прямую дорогу. Как дико было путать в наши отношения его любовь, его культ (ты страшно верно заметила) к семье. Я открою тебе большую тайну: Сахаровская семья в целом стоит очень высоко духовно и, может быть, некоторый горький контраст создал мои отношения. Виновата целиком я. Теперь все так ясно, просто и прекрасно! Жаль, что Дима вчерашний день должен был провести так далеко и трудно для него, но я знаю, что он вспоминал нас. Он своей исключительной заботой последнее время так доказал свое чувство и вполне заслуживает безграничное ответное чувство. Малютка спит сейчас у меня на коленях…»

Андрей Сахаров с младшим братом Георгием (Юрой), 1930
Первенец родился, когда матери было двадцать восемь лет, а отцу – тридцать два. По российским меркам – довольно поздний ребенок. О силе чувств отца говорит то, что он от имени малыша вел дневник, в который записывал события первых месяцев его жизни, затем первые произнесенные слова. Однако в 1921 году отцовское чувство требовало от московского интеллигента и совсем других усилий: «Катин муж ездил в Киевскую губернию за продуктами, долго проездил, но и привез много. Я рад, что сынишка их будет теперь обеспечен и не будет так голодать, как голодали в 19 и 20-м году мои. Сынишка их здоров и очень славный мальчик». Это пишет дядя мальчика, в 1920 году похоронивший двоих малолетних детей.
Родительские чувства – даже в условиях социальной бури, – понять легко. Труднее понять, как у сына этих родителей могло возникнуть чувство социального оптимизма, если оба его деда пострадали от большевиков – один был вынужден бежать от них, другого лишили заслуженной пенсии.
Важную роль в мировосприятии Андрея сыграла бабушка Мария Сахарова, в девичестве Домуховская, «бабаня», которая была «душой семьи, ее центром», «человеком совершенно исключительных душевных качеств: ума, доброты и отзывчивости, понимания сложностей и противоречий жизни». Бабушка читала Андрею первые книги, в том числе и Евангелие. С ней он обсуждал «почти каждую страницу» книг Толстого. Мария Петровна родилась в дворянской семье, училась в Павловском институте в Петербурге. Там познакомилась с участниками народнической организации «Народная воля» и помогала им. Ее самостоятельность и вольномыслие проявились в том, что с мужем они обвенчались лишь после восемнадцати лет совместной жизни, когда уже родились все шестеро их детей (Дмитрий, отец Андрея, был четвертым). Пережив вместе со страной недееспособность самодержавия, кровавый хаос мировой войны и демократическое безвластие Временного правительства, она с трезвым оптимизмом смотрела на жизнь. Ее взгляды Андрей суммировал так: «Большевики все же сумели навести порядок, укрепили Россию и сами укрепились у власти. Будем надеяться, что теперь их власть будет легче для людей».