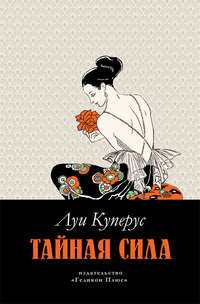Полная версия
О старых людях, о том, что проходит мимо
– Как вы себя сегодня чувствуете, дедушка?
Старик сидел за огромным письменным столом и что-то искал в ящике. Увидев внучку, неспешно задвинул ящик. Она приблизилась, поцеловала его.
– Вы плохо спали?
– Да уж, девочка, пожалуй, я вообще не спал. Но дедушка может жить и без сна…
Такме-деду было девяносто три года; он поздно женился, и сын его тоже, вот и получилось, что внучке всего двадцать три. Впрочем, он выглядел моложе своего возраста, намного моложе, вероятно потому, что под безразличием к своему внешнему виду умел маскировать настоящую, тщательную заботу о нем. Венец редких седых волос окружал его череп цвета слоновой кости, кожа на выбритом лице напоминала выцветший пергамент, зато рот с вставными зубами оставался с виду молодым и улыбчивым, и взгляд его карих глаз из-под очков был ясным и даже проницательным. У него была невысокая, стройная фигура, точно у юноши, сутулая, худая спина обрисовывалась под коротким вестоном[2], не застегнутым на пуговицы. Ухоженные руки с прожилками, слишком большие при его росте, непрерывно дрожали, он страдал тиком мышцы шеи, из-за чего у него время от времени дергалась голова. Голос – веселый, с теплыми нотками звучал, пожалуй, слишком благодушно, чтобы быть полностью искренним; старый Такма говорил медленно, взвешивая каждое слово, о каких бы простых вещах ни шла речь. Если он сидел, то всегда с прямой спиной, на небольшом стуле, не разваливаясь, словно постоянно начеку; если он шел, то шел быстро, семеня едва сгибающимися ногами, и никому не приходило в голову, что у него ревматизм. В свое время он служил чиновником в Ост-Индии, был членом Совета Индии, а теперь уже много лет жил на пенсии. Его собеседники после нескольких фраз обнаруживали, что он следит за политикой, за жизнью в колониях: он посмеивался над тем и другим с легкой иронией. Общаясь с младшими – а таких было большинство, ибо из его поколения остались только девяностосемилетняя мефрау Деркс-старшая, урожденная Дилленхоф, и восьмидесятивосьмилетний доктор Рулофс, – общаясь с младшими он держался добродушно-снисходительно, понимая, что людям даже семидесяти или шестидесяти лет от роду мир представляется совсем иным, чем ему, но благодушие его было каким-то утрированным и наводило на мысль о том, что он говорит одно, а думает совсем другое. Он производил впечатление дипломата, который, сам ос таваясь начеку, прощупывает собеседника, пытаясь понять, насколько много тот знает… Иногда в его ясных глазах под очками вспыхивала искра, словно что-то вдруг глубоко поразило его, какое-то острое ощущение, и от тика шейной мышцы резко дергалась голова, точно он вдруг что-то услышал… И тогда он немедленно изображал на лице улыбку и поспешно соглашался с тем, что ему говорили.
В этом глубоком старике больше всего поражала нервозная, острая ясность мысли.
Казалось, благодаря какой-то неведомой способности он за долгую жизнь так натренировал свои органы чувств, что они до сих пор оставались в полном порядке; он много читал, в очках, отлично слышал, хорошо переносил вино, остро чувствовал запахи, мог найти все, что нужно, в темноте. И лишь изредка случалось такое, что в середине разговора его вдруг обволакивала непобедимая сонливость, взгляд стекленел, и он погружался в сон… Его не трогали, из вежливости не подавали вида, что замечают это, а через пять минут он просыпался и говорил дальше, как ни в чем не бывало. Тот внутренний толчок, от которого он пробуждался, ускользал от внимания окружающих.
Элли каждое утро заглядывала к деду, чтобы поздороваться.
– Днем мы идем с визитами к родственникам, – сказала Элли. – Мы еще ни у кого не были.
– Даже у бабушки Лота?
– С нее мы сегодня и начнем. Дедушка, ведь мы обручились всего три дня назад. Невозможно же немедленно напрашиваться ко всем в гости, чтобы рассказывать о своем счастье.
– А ты и правда счастлива, – сказал дед с благодушной нотой в голосе.
– Да, по-моему, да…
– Мне очень жаль, что я не могу предложить вам с Лотом жить у меня, – продолжал он совершенно спокойно: он имел обыкновение говорить о важных вещах как о чем-то незначительном, и в его старческом голоске не слышалось никакого напряжения. – Ты же понимаешь, я для этого слишком стар: чтобы ваше молодое домашнее хозяйство было вставлено в рамку моего! Но ведь в том, чтобы жить отдельно, есть своя прелесть. Милая девочка, мы с тобой никогда не говорим о деньгах… Ты знаешь, что твой отец не оставил наследства, а деньги твоей матери растратил: пытался открыть предприятие на Яве, но ничего не получилось… Они не были счастливы, бедные твои родители… Ты знаешь, что я не богат, но могу позволить себе жить так, как живу, здесь, на Маурицкаде, потому что потребностей у старика все меньше и меньше, а кузина Адель ведет хозяйство очень экономно. Я подсчитал, что смогу давать тебе по двести гульденов в месяц. Но не более того, девочка, не более того.
– Что вы, дедушка, это же так много…
– Чем богаты, тем и рады. Ты моя главная наследница, правда, не единственная, у твоего деда есть и другие близкие ему люди – добрые знакомые, добрые друзья… Осталось уже недолго, девочка. Разбогатеть ты не разбогатеешь, самое ценное, что у меня есть, это мой дом. А с остальным очень скромно… Но тебе будет хватать на жизнь, особенно потом… Да и Лот, насколько я знаю, кое-что зарабатывает. Ах, деньги – далеко не главное, девочка. Что главное, так это… это…
– Что, дедушка?
Старика внезапно обволокла сонливость. Но через минуту-другую он заговорил снова:
– Возможно, вы будете жить у Стейнов…
– Да, но окончательно еще не решено…
– Отилия очень мила, но она такая нервная… – проговорил старик, погруженный в собственные мысли; казалось, он думает о чем-то другом, о многих вещах сразу.
– Если я соглашусь, то только ради maman Отилии, дедушка. Потому что она так привязана к Лоту. Я сама предпочла бы жить отдельно. Но мы в любом случае будем много путешествовать. Лот говорит, что готов путешествовать без особых затрат.
– Ты с твоим тактом, вероятно, и сможешь… жить у Стейнов. Отилия очень, очень одинока. Бедняжка. Как знать, ты, возможно, добавишь в ее жизнь тепла, ласки…
В его надтреснутом голоске появились нотки нежности, послышалась глубокая искренность…
– Посмотрим, дедушка. Вы сегодня останетесь у себя в комнате или спуститесь обедать в столовую?
– Нет, пусть мне принесут что-нибудь сюда. Я не голоден, я совсем не голоден…
Его голос снова зазвучал высоко.
– Какой сильный ветер, наверное, будет дождь… А вы ведь собираетесь в гости?
– Совсем ненадолго… Заглянем к мефрау Деркс… К бабушке…
– Да-да, так и говори – к бабушке. Когда ее увидишь, сразу назови ее бабушкой… Это по-домашнему, ей наверняка будет приятно… это неважно, что вы с Лотом еще не успели пожениться…
Его голос оборвался, с губ слетел слабый стон, как будто он подумал о чем-то другом, о многих вещах сразу, и из-за тика шейной мышцы голова его дернулась, на миг застыла в неестественном положении, словно он что-то слышал, к чему-то прислушивался… Элли заключила, что дедушка сегодня плоховат… Но вот его опять обволокла сонливость, голова опустилась на грудь, взгляд остекленел. Он сидел в своем кресле такой хрупкий, полупрозрачный от старости, казалось, если посильнее подуть, то жизнь вылетит из него, как легкое перышко… Немного поколебавшись, Элли оставила его одного. Услышав, как за ней тихонько закрывается дверь, старик встрепенулся, сознание вернулось к нему. Еще мгновение он просидел неподвижно. Затем выдвинул ящик, который закрыл при появлении Элли, и достал из него разорванное на части письмо. Каждую часть он разорвал на мелкие кусочки, мелкие-мелкие, и ссыпал их в корзину для бумаг, где они перемешались с другими выброшенными бумагами. Потом он разорвал еще одно письмо, и третье, не читая. Кусочки ссыпал в корзину, потряс ее, и тряс, и тряс… Пока он рвал письма, устали его подагрические пальцы, пока тряс корзину, устала рука.
– После полудня продолжу… еще несколько… – пробормотал он. – Уже пора, уже пора…
III
Около трех часов дня господин Такма вышел из дома, один, он не любил, чтобы его сопровождали, когда уходил из дома; он был бы рад, если бы ему помогли проделать обратный путь, но ни за что не стал бы об этом просить. Адель смотрела на него из окна и провожала взглядом, пока он огибал угол казармы и переходил через горбатый мост. Его путь не был далеким, он шел до угла Нассаулаан, до дома мефрау Деркс, и это расстояние проходил с гордой прямой спиной и негнущимися ногами; в пальто, застегнутом на все пуговицы, он выглядел не таким уж старым, хотя на самом деле каждый свой шаг тщательно продумывал и тяжело опирался на толстую трость с набалдашником из слоновой кости. Чтобы не подавать виду, что эта прогулка – его ежедневный спорт и ежедневное преодоление себя – невероятно тяжелы для него, черпавшего силы только из нервного напряжения, он продумывал каждый шаг, но со стороны казалось, будто он идет без труда, с прямой спиной; он рассматривал свое отражение в окнах первого этажа. На улице не бросалось в глаза, насколько он стар. Когда он звонил в дверь, старая служанка Анна бежала открывать, и кошка путалась у нее в юбках, служанка и кошка неслись открывать дверь вместе.
– Не иначе как господин Такма!
Анна прогоняла кошку на кухню, чтобы та не вертелась под ногами у господина Такмы, и встречала его разговором о погоде, расспросами о самочувствии, и он снимал пальто, всегда в передней, тщательно продуманными движениями, чтобы оно легко соскользнуло с его плеч прямо служанке в руки. Утомленный от прогулки, он выполнял этот ритуал неспешно, заодно переводя дыхание, чтобы затем, опираясь на трость…
– А трость нам еще пригодится…
Чтобы затем, опираясь на трость, подняться по лестнице – всего один марш; мефрау Деркс никогда не спускалась в нижние комнаты.
Она ждала его…
Он приходил почти каждый день, а если не приходил, то посылал Адель или Элли сообщить, в чем дело. Так вот, она ждала его в своем большом кресле. Она сидела у окна с видом на окруженные садами виллы вдоль Софийской аллеи.
Его приветствие было шумным, но несколько сбивчивым:
– Да, Отилия… сегодня ветрено… да, ты ведь еще недавно кашляла… Береги себя, пожалуйста… а со мной все в порядке, все в порядке, ты же видишь…
Не переставая говорить в том же духе, все с тем же шумным благодушием, он с трудом опустился в кресло у второго окна; только теперь Анна взяла у него шляпу, руки в просторных перчатках из глянцевой кожи опирались на набалдашник трости.
– Мы еще не виделись после великой новости, – сказала мефрау Деркс.
– Дети собираются к тебе сегодня с визитом…
Оба смолкли, глядя друг другу в глаза, скупые на слова. И они молча сидели друг против друга, каждый у своего окна, в этой узкой гостиной. Здесь, в полутьме гардин из винно-красной ткани в рубчик поверх кремовых тюлевых штор, за которыми шла винно-красная утеплительная драпировка, примыкавшая непосредственно к прямоугольнику рамы, эта старая-старая дама сидела дни напролет; при появлении господина Такмы она сделала одно-единственное движение – приподняла руку в черной митенке, чтобы Такма смог ее пожать. И вот теперь они вдвоем сидели неподвижно, словно чего-то дожидаясь, но умиротворенные тем, что дожидаются этого вместе… Ей было девяносто семь лет, и она знала, чего дожидается – того, что произойдет прежде, чем ей стукнет сто… В полумраке зашторенной комнаты, на фоне темнеющих обоев, ее лицо казалось белым фарфоровым пятном с морщинками-кракелюрами, заметными даже в тени, в которой она скрывалась по давней привычке, чтобы окружающие не замечали увядшего цвета ее лица, обрамленного гладко-черным париком под черным кружевным чепчиком. Черное просторное платье лежало изящными складками на ее хрупком тельце, но при этом столь полно скрывало его в неизменных складках мягкого кашемира, что казалось, будто ее вообще нет под этим темным покровом. Кроме лица живыми в ее облике были только покоившиеся на широком подоле платья дрожащие тонкие пальцы, выглядывавшие из черных митенок; меховая опушка рукавов скрывала запястья. В своем кресле с высокой спинкой, похожем на трон, она сидела идеально прямо, опираясь спиной на жесткую подушку, и еще одна подушечка лежала у нее под ногами, тронутыми подагрой, которые она всегда скрывала от глаз окружающих. Рядом столик с вязаньем, хотя она уже много лет не прикасалась к нему, и газеты, которые ей читала компаньонка – пожилая дама, тотчас же покинувшая комнату, едва вошел господин Такма. Комната опрятная, простая, на стенах несколько портретов в рамах – единственное украшение между полированными, с черным блеском шкафами; винно-красное канапе, стулья, на этажерке приглушенный блеск фарфора. За раздвижной дверью, сейчас закрытой, находилась спальня; только в этих двух комнатах и обитала Пожилая Дама, свой легкий обед она всегда съедала, не вставая с кресла.
Золотом сияло солнце в этот осенний день, ветер весело дул, взметая первые желтые листья по садам на Софийской аллее.
– Какой чудесный вид, – сказала мефрау Деркс, как говорила уже столько раз, и ее рука в митенке чуть шевельнулась, словно показывая за окно.
Ее голос, надтреснутый, звучал более мягко, чем если бы она говорила на чистом голландском языке, в нем слышался креольский акцент, и в глазах на фарфоровом лице, смотревших в окно и неожиданно потемневших, тоже проявилось что-то креольское. Она плохо видела, что там, на улице, но для ее замутненного взгляда было важно, что там растут дорогие ее сердцу цветы и деревья.
– Какие красивые астры в саду напротив, – сказал Такма.
– Да, – согласилась мефрау Деркс, не видевшая их, но теперь знавшая об этих астрах.
Такму она слышала хорошо; при общении со всеми другими была глуха, но не подавала виду: никогда не переспрашивала и отвечала улыбкой своих тонких, плотно сжатых губ либо кивком головы.
Через некоторое время, в течение которого каждый из них смотрел в свое окно, она сказала:
– Вчера я виделась с Отилией.
Господин Такма на миг погрузился в дремоту.
– Отилией? – переспросил он, очнувшись.
– Да, Отилией… моей дочерью…
– Ах, конечно… ты вчера виделась с дочерью… Я подумал, ты о себе…
– Она плакала.
– Почему?
– Оттого что Лот собрался жениться.
– Она будет так одинока, бедняжка, хотя Стейн и хороший человек… Очень жалко… Мне-то Стейн очень нравится.
– Мы все одиноки, – сказала мефрау Деркс, и ее надтреснутый голос звучал так грустно, как будто она сожалела о прошлом, населенном призраками, почти растаявшими.
– Нет, не все, Отилия, – сказал Такма. – У меня есть ты, а у тебя я… Мы всегда были вместе… А у нашей дочери после женитьбы Лота не останется никого, даже ее муж уже не с ней.
– Тссс! – произнесла Пожилая Дама; в темноте вся ее маленькая прямая фигурка содрогнулась от страха.
– Здесь никого нет, мы можем говорить спокойно…
– Да, правда, никого…
– А тебе показалось, что кто-то есть?
– Нет-нет, сейчас нет… Но иногда…
– Что иногда?
– Иногда… знаешь… мне кажется…
– Здесь никого нет.
– Да, правда…
– Чего ты боишься?
– Боюсь? Разве я боюсь? С какой стати мне бояться? Я стара… слишком стара, чтобы все еще… бояться… даже когда он стоит вон там.
– Отилия!
– Тссс!
– Здесь никого нет…
– Да, никого…
– Ты что, недавно его видела?
– Нет, нет… уже несколько месяцев не видела, может быть даже… больше года… Но много, много лет подряд… я его видела, видела… А ты?
– Я нет…
– Но ты его слышал…
– Да…я его слышал… У меня всегда был очень острый слух, и я всегда страдал нервами… Это были галлюцинации… Я часто слышал его голос… Но не будем об этом… Мы оба такие старые, такие старые, Отилия… Он наверняка уже простил нас. Иначе мы бы не дожили до такого возраста. Наша жизнь столько лет подряд – столько долгих лет подряд – текла и текла совершенно тихо-мирно; нас ничто не беспокоило; он наверняка простил нас… А теперь… теперь мы оба стоим на краю могилы.
– Да, ждать осталось недолго. Я чувствую.
Но Такма изобразил на лице свое обычное благодушие.
– Ты что, Отилия! Ты доживешь до ста лет!
Такма рассчитывал, что его голос прозвучит игриво и беззаботно, но вместо этого сорвался на крик.
– Я не доживу до ста, – сказала старая дама. – Я умру нынешней зимой.
– Нынешней зимой?
– Да… Я это вижу. И жду. Но я боюсь.
– Чего боишься? Смерти?
– Нет, не смерти. Я боюсь… его.
– Ты веришь, что правда… его увидишь?
– Да. Я верю в Бога, во встречу после смерти. В загробную жизнь. В возмездие.
– Я не верю, Отилия, что после смерти нас ждет возмездие, ведь за нашу долгую жизнь мы оба столько выстрадали! – произнес старик чуть ли не плачущим голосом.
– Но мы не понесли наказания.
– Наказанием были наши муки.
– Этого недостаточно. Мне кажется, что когда я умру… то он, он на меня заявит.
– Отилия, мы прожили такую долгую жизнь, и такую спокойную. Мы страдали только в душе. Но этих страданий должно быть достаточно, Господь сочтет, что такое наказание было более чем суровым. Не бойся смерти.
– Я не боялась бы, если бы увидела у него на лице менее жесткое выражение, хоть чуть-чуть прощения. А он на меня всегда так строго смотрит… Эти глаза…
– Тише, Отилия…
– Когда я сидела здесь, он всякий раз стоял вон там, в углу рядом с этажеркой, и смотрел на меня. Когда я лежала в кровати, он показывался в зеркале и смотрел на меня. Много, много лет подряд… Быть может, то были галлюцинации… Но с этим я дожила до старости. Слезы у меня давно иссякли. Ломать руки я уже неспособна. Я перемещаюсь только между креслом и постелью. Ни беспокойства, ни страха… уже давно нет, ведь никто ни о чем не знает. От бабу[3]…
– От Ма-Бутен?
– Да… от нее уже много лет ни слуху, ни духу… Она единственная, кто знал… и она наверняка уже умерла…
– Еще знает Рулофс… – произнес Такма тихо-тихо.
– Да… знает… но…
– Он всю жизнь молчал…
– Он… как мы… почти… соучастник…
– Отилия… не волнуйся… Мы дожили до таких преклонных лет… не волнуйся, как не волнуюсь я, сколько бы ни вспоминал… Ты всегда была чересчур нервной.
В его голосе звучала мольба, от обычного благодушия не осталось и следа.
– Я стала нервной после этого… И никогда не могла думать о нем без волнения! Вначале я боялась… боялась людей; потом самой себя – мне казалось, я схожу с ума! А теперь, когда ждать осталось недолго… я боюсь Бога.
– Отилия!
– Какое это бесконечное, бесконечное мученье… О Боже, неужели так промучиться всю эту жизнь – недостаточно…
– Отилия, мы бы не дожили до таких лет – ни ты, ни я, ни Рулофс… если бы Господь… и если бы он… не простили бы нас.
– Но почему же тогда он так часто приходил сюда? Он так часто показывался вон там! И никогда ни слова не говорил. Просто смотрел и смотрел, бледный, с впалыми глазами, темными и буравящими, точно два огненных сверла, вот такие…
И она показала это своими изящными указательными пальчиками…
– А я… я спокоен, Отилия. Ведь если нас ждет кара после нашей смерти, мы ее примем. А когда мы ее примем и выстоим… то придет черед Милости!
– Жаль, что я не католичка. Я долго размышляла, не перейти ли в католицизм. Тереза правильно сделала, что перешла в другую веру… Ах, отчего мы с ней почти совсем не видимся! Если бы мы с ней встретились… Я надеюсь… Я надеюсь… Если бы я была католичкой… я бы могла исповедаться…
– Но таких грехов у католиков не отпускают…
– Правда? А я думала… я думала, что католический священник может освободить от любого греха, помочь очистить душу перед смертью. После исповеди ведь стало бы легче… у меня ведь появилась бы надежда? Наша религия такая холодная. Я ни с одним пастором ни разу не смогла поговорить… об этом!
– Еще бы! Еще бы!
– С католическим священником я могла бы это обсудить. Он наложил бы на меня епитимью, на всю-всю жизнь, и мне стало бы легче. Эта тяжесть постоянно давит мне на грудь. А я такая старая. Она давит, когда я сижу. И когда лежу в кровати. Я даже не могу походить, побродить, забыться в движении…
– Отилия, почему ты вдруг так много говоришь сегодня об этом… Порой мы месяцами, годами не произносим об этом ни слова. И тогда месяцы и годы проходят спокойно. Почему же сегодня ты вдруг все время возвращаешься…
– Я погрузилась в размышления, потому что Лот с Элли собираются пожениться.
– Они будут счастливы.
– А вдруг это грех, вдруг это кровосмешение….
– Нет, Отилия, вдумайся получше…
– Ведь они…
– Кузен и кузина. Они об этом не знают, но это не грех, не кровосмешение…
– Да, правда.
– Они не родные, а двоюродные.
– Да, двоюродные.
– Отилия – моя дочь, ее сын Лот – мой внук. Отец Элли…
– Что отец Элли?
– Вдумайся, Отилия. Отец Элли – мой сын – брат Отилии, матери Лота. Их дети – двоюродные брат и сестра.
– Да…
– Ну и все в порядке…
– Но они сами не знают, что они родственники. Отилия никогда не догадывалась, что ты ее отец. Отилия никогда не догадывалась, что твой сын – ее брат.
– Ну и что? Двоюродные брат с сестрой могут пожениться.
– Да, могут, но это нехорошо. Нехорошо для детей, которые у них родятся. Нехорошо в смысле крови и… вообще…
– В каком смысле, Отилия?
– Они унаследуют наше прошлое. Унаследуют Страх… Унаследуют наш грех. И наказание за содеянное нами.
– Ты преувеличиваешь, Отилия. Они не унаследуют все это.
– Все, все перейдет на них. Рано или поздно они увидят его, услышат его в тех новых домах, где они поселятся… Лучше бы Элли и Лот нашли свое счастье по отдельности, со спутниками жизни другой крови… с другой душой… Они не смогут обрести обычное счастье… Как знать, возможно, их дети станут…
– Тише, Отилия, тише!
– Преступниками…
– Отилия, умоляю тебя, замолчи! Замолчи же! Зачем ты так говоришь? Много лет все было спокойно. Понимаешь, Отилия, мы уж слишком старые. Это неправильно, что мы такие старые. Это уже наказание для нас. Давай больше не будем об этом говорить, никогда в жизни. Давай спокойно, спокойно ждать, что будет, и принимать все, как есть, потому что от нас ничего не зависит.
– Да, давай спокойно ждать.
– Давай ждать… Нам осталось уже немного. Совсем немного, и тебе, и мне.
В его голосе слышалась мольба; глаза блестели влажным блеском; она сидела, неподвижно выпрямившись в кресле, руки безудержно дрожали среди глубоких черных складок на коленях… Но вот обоих охватила сонливость; недавняя ясность и исполненная страха возбужденность их странной беседы пробудили и заставили вибрировать их души лишь на миг, словно под воздействием порыва ветра, пришедшего извне… Теперь же оба угасли и разом состарились. И они еще долго сидели, каждый у своего окна, и бессмысленно смотрели, смотрели на улицу.
Тут раздался звонок в дверь.
IV
Это пришел Антон Деркс, ее старший сын от второго брака; от первого брака у Пожилой Дамы была только дочь, Сефани де Ладерс, старая дева. Антон тоже остался холостяком; он успешно служил в Ост-Индии и вышел в отставку в должности резидента[4]. Сейчас, в семьдесят пять лет, он был человеком молчаливым, мрачным, ушедшим в себя из-за долгих лет одинокой жизни, постоянно погруженным в мысли о себе самом. Ему было свойственно – сначала от природы, затем осознанно – маскировать свои чувства, не открываться даже в том, что принесло бы ему славу и любовь в обществе; обладая недюжинным умом, человек высокообразованный, он взрастил свой интеллект лишь для самого себя и в реальной жизни так и не поднялся выше уровня среднего чиновника. Его мрачная душа нуждалась в мрачном наслаждении для самой себя, как раньше, так и теперь, подобно тому, как его большое тело нуждалось в темном сладострастии. Он вошел в пальто, которого не стал снимать, чтобы не замерзнуть, хотя сентябрь только начался и светило солнце, так что осень почти не ощущалась. Он навещал мать раз в неделю, по давней привычке, рожденной почтением и уважением. Все дети – теперь уже пожилые люди – приходили сюда регулярно, но в передней непременно справлялись у Анны, служанки с неизменной кошкой на коленях, нет ли кого-нибудь наверху, у maman. Если там уже был кто-нибудь из родственников, они не шли на второй этаж сразу, чтобы не утомлять матушку присутствием нескольких людей и множеством голосов. В таких случаях Анна принимала их в гостиной первого этажа, которую протапливала в зимнее время, и нередко угощала сливовой наливкой. Анна обязательно сообщала им, если только что пришел господин Такма, и тогда дети и внуки выжидали минут пятнадцать, прежде чем подняться на второй этаж, так как знали, что maman, или grand-maman, любит побыть наедине с Такмой, своим давним другом. Если же после появления Такмы уже успело пройти какое-то время, Анна прикидывала, можно ли пустить родственников наверх… В дневное время компаньонки обычно не было, за исключением тех случаев, когда госпожа просила позвать ее, оттого что из-за плохой погоды к ней никто не пришел.