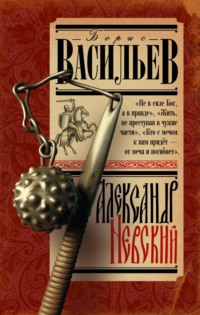Полная версия
В окружении. Страшное лето 1941-го
Когда несовершеннолетняя девочка оказывается мамой, это естественно, но не совсем привычно, что ли, а потому способно создать лавину слухов и сплетен. Когда же эта родившая девочка – ваша падчерица и вы не только не открещиваетесь от всего на все стороны – нет, вы безмерно счастливы! – это уже гран-скандал. И, учтя неизбежность этого гран-скандала, дед при первых намеках падчерицы на взаимность честно рассказал все ее матери, то есть своей законной жене. Не повинился, а объявил, что любит он не ее, а ее дочь, и женился только для того, чтобы быть рядом с девочкой всю жизнь и всю жизнь любить ее. И что девочка ответила взаимностью со всем пылом греко-славянского происхождения. Не знаю, любила ли Дарья Кирилловна моего деда, но все их объяснения закончились тем, что оскорбленная супруга уехала в Высокое, отошедшее к тому времени в собственность Ивана Ивановича, заявив, что не желает более видеть ни мужа, ни дочери.
Вскоре у двух горячо и искренне любящих людей родился первый незаконный ребенок. Незаконный потому, что Дарья Кирилловна о разводе не желала ничего слышать, и в глазах церкви и общества получалось, что юная грешница прижила ребенка на стороне. В соответствии с этим ребенок получил отчество не по родному отцу, а по крестному, а поскольку крестным был брат Ивана Ивановича Георгий, то моя старшая тетушка и писалась всю жизнь Ольгой Георгиевной во всех бумагах и документах. Матушка моя оказалась второй незаконной дочерью, крестным отцом ее был другой брат, Николай, и звалась она, соответственно, Еленой Николаевной. И только последующие дети – Владимир и Татьяна – родившиеся после смерти Дарьи Кирилловны и венчания собственных родителей – получили право на отцовское имя: Владимир Иванович и Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, моя тетя Таня, пережила всех и вся: революцию и Гражданскую войну, смерть первого мужа и расстрел второго, коллективизацию и опричнину, Великую Отечественную войну и угон в Германию.
* * *Когда это случилось, она с маленьким сыном Вадимом и дочерью Ольгой, у которой уже был ребенок, жила в Жиздре – маленьком городке тогда Смоленской области, выбранном заботливым НКВД для ее ссылки без права изменения места жительства. К тому времени Оля уже закончила педагогический техникум и преподавала немецкий язык, что в какой-то степени помогло им выжить. Когда наши войска освободили Жиздру, мама писала множество запросов во все инстанции, но получала один ответ: «О судьбе ваших родственников известий не имеется». И только в 45-м, вскоре после Победы, из Смоленска пришло письмо от самой тети Тани. И мы с мамой тут же выехали в Смоленск.
И я увидел разрушенный почти до основания город моего первого вздоха. Разбитые и взорванные дома, исчезнувшие улицы, руины кварталов, в которых мне до сей поры чудился запах трупов и взрывчатки. И над всем этим возвышался не тронутый ни единой бомбой Успенский собор, в котором шли службы. Я не мистик и тем не менее не мог не признать, что здесь не обошлось без какого-то чуда. Уцелело самое высокое здание, отличный ориентир для бомбежек как германских, так и наших самолетов, и – ни одной бомбы не попало в него, хотя рядом было решительно все сметено с лица земли.
Тетя Таня нас встречала. Она жила на Покровке в каком-то огромном подвале, где на узлах, на досках, на охапках соломы ютилось множество беженцев и перемещенных лиц. Вместе с нею были Оля и Вадим: Олин ребенок умер еще во время оккупации. Я оставил их в этом подвале и помчался в центр Смоленска, где провел свое детство. Здесь тоже было много разрушенных домов, но сам центр пострадал все же меньше, чем иные районы города. Целым оказался ансамбль, окружающий Блонье, Лопатинский сад и, как ни странно, все памятники Отечественной войны 1812 года: немцы увезли в Германию только памятник генералу Энгельгардту. Я пометался по знакомым местам, выяснил, что наш дом во дворе по улице Декабристов 2/61 тоже разрушен бомбой, и уже под вечер вернулся в подвал на Покровку. На следующий день мне предстояло помочь тете получить хоть какой-то «вид на жительство» и место этого жительства.
Признаться, я не умею продираться куда бы то ни было, расталкивая всех локтями. Не умею просить, не умею жаловаться: родители постарались избавить меня от этих холопских качеств, не очень полагаясь на гены (тогда это не было столь модным, каким стало впоследствии). Поэтому я провел трудную ночь, ни на что не решился, но когда пришел вместе с тетей Таней и своими двоюродными братом и сестрой на какой-то контрольный пункт и увидел огромную очередь на улице, то что-то со мной случилось. Я уже был офицером (я получил звание младшего техника-лейтенанта еще в апреле 45-го), а потому решительно пошел мимо всех обреченно стоявших и угнетенно молчавших. В приемной тоже яблоку некуда было упасть, хотя сюда вызывали людей порциями. У входа в кабинет стоял какой-то сержант, но я отодвинул его и без стука распахнул дверь. Пишу об этом столь подробно потому лишь, что и до сей поры этого не забыл и до сей поры удивляюсь самому себе.
За столом в кабинете сидел немолодой майор, если судить по званиям армейским, напротив его – тихо плачущая женщина. Тогда многие плакали, но всегда – тихо, всегда собирая в платочек собственное горе, точно стесняясь его.
– Проездом, – объявил я, козырнув майору. – Дело у меня, а времени – в обрез.
– Обождите в приемной, – сказал майор женщине.
Несчастная женщина еще не успела выйти, как я, развалившись на освободившемся стуле, уже начал что-то говорить. Помнится, одна здравая мысль тогда сидела в моей голове: не дать майору перехватить инициативу. И я не дал. Я рассказывал майору о Параде Победы, участником которого был и в самом деле; об академии, в которой учился, о преимуществе наших танков… Ну и, конечно же, о тете и ее семье, угнанных немцами в Германию. Развязностью, которой стыжусь до сей поры, я прикрывал свое полное неумение разговаривать с незнакомым человеком: черта, свойственная мне от природы. Я умею и люблю говорить с аудиторией, она меня не пугает, и я всегда нахожу верный тон. Но разговор тет-а-тет был и остался моим слабым местом: я – скорее массовик-затейник, нежели собеседник.
Сдается мне, что майор прекрасно понял меня тогда. Понял мою полную беспомощность и наивность, но понял и то, что я изо всех сил, глупо и неумело пытаюсь исполнить долг: помочь родным, попавшим в тяжелое положение. Конечно, он мог бы сказать уже ставшее знаменитым «разберемся», тем более что я намеревался в тот же день уехать в Москву, но сказал другое:
– Все сделаем. Учись спокойно.
Я ушел. А майор, закончив с плачущей женщиной, вызвал к себе тетю Таню и Олю. Не знаю, о чем они говорили, но документы им были выданы, а местом проживания определена Ельня по их просьбе. Все же ближе к родному гнезду…
Вечером того же дня мы выехали в Москву, взяв с собою Вадима. Он никогда не учился в школе, а болтал куда чаще по-немецки, основательно путаясь в русском языке. Предстояло подготовить его для пятого класса, что нам и удалось. А затем Вадим закончил техникум, следом – заочный институт, всю жизнь проработал в ГАИ Ярославля и вышел в отставку полковником милиции.
Тетя Таня умерла счастливой при всей своей сказочно несчастливой жизни, и в этом смысле она несколько выбивается из легиона большевистских жертв. А причина в редкостном жизнелюбии, улыбчивом оптимизме и поразительном для такой горькой судьбы чувстве юмора. Ее сестра, моя матушка, была полной ее противоположностью, хотя тетя Таня уверяла меня, что в молодости мама была совершенно иной. И дело совсем, совсем не в возрасте…
* * *Опять – о маме. О том, почему она однажды разучилась улыбаться и не улыбалась уже никогда. И никогда не плакала, даже на похоронах отца не проронила ни слезинки.
К моменту рождения первого ребенка ее грешный отец уже где-то служил, но в преддверии скандала сразу же перевелся подальше. Не знаю точно, где родилась тетя Оля, но мама увидела свет в Варшаве. Эта неосторожность родителей лишь чудом не испортила жизнь дочери: в 1939 году во время злосчастной Финской войны матушка оказалась в числе зачинательниц движения командирских жен по оказанию помощи раненым воинам. Для нее это было обычным занятием, поскольку подобной деятельностью занимались когда-то ее бабки, прабабки, кузины, тетки и вообще «дамы общества», но командование было потрясено порывом патриотизма, список жен-благотворительниц доложен куда следовало, и «ТАМ» соизволили пожелать лично поглядеть на подвижниц. А поскольку грамотность уже овладела массами, то ни одно доброе дело теперь не мыслилось без бумажек, и началось писание анкет и заполнение автобиографий (я сознательно написал абракадабру, достойную этого занятия). Матушка и там, и там, и там, и… в общем, во всех видах жандармских бумажонок честно указала, что родилась в Варшаве, и была, естественно, немедленно изъята из всех списков. Так она и не пообщалась с товарищем Сталиным, но зато, правда, не познакомилась и с его Малютами Скуратовыми на местах, что следует рассматривать как сказочный подарок судьбы.
Она познакомилась с ними раньше, но об этом знакомстве – в свое время.
Я мало интересовался детством матушки, о чем очень сожалею сейчас. Знаю, что совсем еще маленькой девочкой она оказалась в Брест-Литовске во время страшного пожара, когда сгорел весь город: мама помнила, как бабушка несла ее на руках сквозь горящие улицы, а кошка вырвалась из кошелки и бросилась в пламя. Сама же бабушка этой истории никогда не касалась, может быть потому, что огненное крещение повлияло на нее совершенно непостижимым образом и вскоре после пожара восемнадцатилетняя мать двух незаконнорожденных дочерей сбежала от них, семьи и безмерно любящего ее мужа с каким-то усатым прохиндеем при шпорах и сабле.
Для того чтобы представить себе, что было с дедом, надо учесть, что дед был материалистом-фанатиком, если вообще возможен подобный симбиоз. А фанатические материалисты переносят удары судьбы особенно тяжко по той простой причине, что исходно не верят в эту самую предначертанную судьбу. И там, где идеалист утешается велением рока, мистик – вмешательством потусторонних сил, а циник – уверенностью, что худшее – всегда впереди, материалист оказывается безутешным. Самая рациональная философия бессильна в сфере людских отношений, а в особенности – в отношениях между мужчиной и женщиной, и бездушно жестока к своим верномыслящим: закон конечной справедливости действует с непреложной беспощадностью. Выигрывая в знаниях, ты проигрываешь в вере, а поставив на материальное, лишаешься иллюзий, столь необходимых человеку, чтобы нормально прожить отпущенную жизнь: убежденные материалисты куда чаще заболевают психическими расстройствами, нежели идеалисты, – эту истину вам откроет любой серьезный психиатр. А дед был убежденным трижды: убежденным материалистом, убежденным атеистом и убежденным влюбленным – и в соответствии с такой надстройкой падал с третьего этажа возведенного им замка. Поначалу он попытался пить, но это был еще не запой, а попытка компенсации. Девочки плакали и звали мамочку, и это отрезвляло. Дед устоял на ногах, упаковал детей и лично отвез их в Высокое к своей собственной жене Дарье Кирилловне.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.