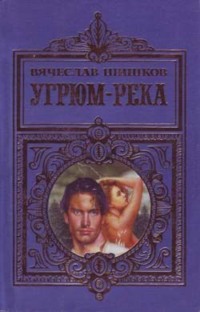Полная версия
Емельян Пугачев. Книга первая
– Нем, как рыба, господин фельдмаршал, – щелкнув шпорами, сказал офицер. – И осмелюсь доложить: на графа Тотлебена поступило множество жалоб.
– На Тотлебена? Ну-тка, ну-тка, – оживился Бутурлин.
– Жалуются штаб-офицеры, слишком жесток он. Его там все ненавидят. Недавно наказал шпицрутенами тридцать рядовых казаков за плохое содержание пикетов, а за компанию с ними выдрал и старшин. Сегодня же получен рапорт самого Тотлебена: рапортует, что арестовал бригадира Краснощекова и полковника Перфильева.
– Ах он, сукин сын! – закричал Бутурлин. – Да как он смел! Ведь бригадир-то без малого генерал. Ну там казачишек… это еще туда-сюда, а вот старшин… Эх, и вздую же я его, подлеца. Иноземец какой-то, бывший волонтеришка, да чтобы русскую армию пороть! Мне про него, про бахвала, и граф Чернышев немало сказывал. Ох, бестия, ох, сволота!.. Эй, денщик! Убери-ка, братец, все к чертям, только луковку оставь. Господин адъютант, ну-тка дайкося мне бумагу да перо. Я ему реприманд устрою! – Бутурлин оседлал красный нос очками и принялся за строжайший выговор Тотлебену с приказом немедленно освободить бригадира и полковника из-под ареста. Бутурлин, как и Чернышев, ненавидел Тотлебена, он чуял в нем врага и ждал случая поймать его.
Полученный от главнокомандующего суровый ордер задел Тотлебена за живое. И без того был он сильно раздражен невниманием к себе правящего Петербурга. За взятие Берлина он ничем не был награжден, даже не повышен в чине. Это ли не издевательство!
А дело было так: после резкого выговора, или, вернее, строгого допроса, происшедшего в берлинском королевском замке, кичливый и самонадеянный Тотлебен страстно возненавидел своего обидчика графа Чернышева. И с того часа его неотступно преследовала мысль выставить своего врага на посмеянье всей Европы. «Такой разговор со мной только я да стены слышали, а вот я о тебе поговорю, во все концы мира гулы пойдут», – твердил Тотлебен, обдумывая каждую строку своей реляции о взятии Берлина.
И реляция была составлена. Не посылая в Петербург, Тотлебен поспешил опубликовать ее в заграничной прессе. В своей информации Тотлебен хвастливо выставлял себя на первый план, сводил на нет значение графа Чернышева, резко порицал его как военачальника, а заодно вынес на суд Европы и некоторые недочеты русской армии. Эта реляция своевременно попала в руки фельдмаршала Бутурлина, он тотчас же препроводил ее в Питер. Елизавета на Тотлебена разгневалась. Она писала, что «реляция сочинена крайне предерзостно, ибо Тотлебен свою заслугу увеличивает на иждивение всей армии, особливо же поносит графа Чернышева с его корпусом». Быть бы Тотлебену худо, но тут за опального вступился всесильный государственный канцлер Воронцов, после чего из правящего Петербурга «высочайше повелено было, предавая все происшедшее совершенному забвенью, обнадежить Тотлебена вновь монаршей милостью». Тотлебен успокоился. Но все его существование продолжал отравлять ему «этот старый барбос, этот пьяница Бутурлин». Вот и теперь… Получить такой разнос за каких-то паршивых казачишек…
3
Наступила весна. Тотлебен со своей частью находился в Померании. Сюда же должен был прийти корпус графа П.А. Румянцева для осады сильной приморской крепости Кольберг. Ожидалось прибытие русского флота и тяжелой артиллерии.
Хитроумный Бутурлин вздумал поманить не менее хитрого Тотлебена: а не может ли, мол, храбрый граф, на удивленье всего мира, вновь проявить свое геройство и, не дожидаясь прибытия флота, молодецким налетом взять крепость Кольберг столь же искусно, как был взят Берлин. Истолковав такое предложение как насмешку, Тотлебен от подобной чести отказался. Тогда Бутурлин приказал ему: находившиеся под его командой три пехотных полка передать графу Румянцеву, а самому Тотлебену с легкими войсками выступить из Померании на соединение с главной армией.
Но тут для Тотлебена произошло нечто неожиданное.
Полковник Аш, назначенный Бутурлиным заведовать делопроизводством графа Тотлебена, плохо знавшего русский язык, прислал Бутурлину секретное письмо, в котором сообщалось: «Кажется, что граф Тотлебен поступает не по долгу своей присяги и, как я думаю, находится в переписке с неприятелем». Полковник Аш, глаза и уши Бутурлина, писал далее о том, что Тотлебен получает корреспонденцию с неприятельской стороны, что прусский военачальник в Померании генерал Вернер почасту присылает в наш лагерь трубачей и офицеров для якобы разрешенных фельдмаршалом Бутурлиным переговоров о временном перемирии, что недавно берлинский банкир Гоцковский прожил в нашем лагере три дня по каким-то денежным делам и что смутившийся Тотлебен, очевидно желая задобрить полковника Аша, подарил ему, Ашу, золотые драгоценные часы. «Все это и многое другое, – заключает Аш, – наводит меня на сомнение, что Тотлебен какую-то фальшивость чинит с нами, и я сделал проект, как его в уповательных фальшивостях поймать».
Прочитав это письмо, Бутурлин всхохотнул и, сжав кулаки, сказал по адресу Тотлебена:
– Вскормили змейку на свою шейку.
Вскоре в русском лагере полковник Аш встретил конфидента[6] Саббатку из Берлина, прибывшего просить свидания с Тотлебеном. Полковник Аш это свидание устроил. На другой день Тотлебен отпустил Саббатку, приказав капитану Фафиусу проводить его с казаками до неприятельской крепости Кюстрин. Полковник Аш задержал Саббатку и обыскал его. В сапоге Саббатки оказался пакет без адреса, но за печатью Тотлебена, а в нем – точный перевод ордера Бутурлина с указанием предстоящего маршрута русской армии из Познани в Силезию и – еще собственноручная записка Тотлебена к Фридриху II. «Верный слуга получил сегодня милостивое письмо принципала своего и надеется, что и сам принципал письмо раба своего получил, которое он к принцу 1086 отослал, и о новых переменах 521, 864, 960 объявить не оставил. Верный раб по гроб не перестанет служить своему принципалу 1284, 711, 6—45, 389».
Около полуночи, когда Тотлебен уже лежал в кровати, в его спальню неожиданно вошли три полковника: Билов, Зарич и Фуггер. Один из них, держа в руке бумагу, произнес:
– По высочайшему указу вы арестованы… – промолчав, резко добавил: – За сношение с неприятелем.
Тотлебен обомлел. Ему показалось, что это не три подчиненных ему полковника, а три чугунных рыцаря, те, что стояли в королевском дворце в Берлине, вздыбив возле его кровати, грузно ударили в пол чугунными секирами. Тотлебен вцепился горстями в одеяло и, исказившись в лице, воскликнул:
– Это ли награда за мою верную службу! За что, за что арестовать меня?
– У вашего шпиона Саббатки обнаружены позорящие вас документы.
– Хорошо, берите меня. Я отправлюсь с вами под эскортом к фельдмаршалу, где моя невиновность сразу же объявится, – волнуясь, говорил Тотлебен по-французски. – Вы можете делать со мной что хотите… Но вы испортите этим начатую мною против Фридриха кампанию…
Были отобраны сабли, пистолеты, деньги, а все бумаги тотчас опечатаны. Среди бумаг найден черновик большого письма прусскому королю.
Тотлебена вместе с его людьми и конфидентом Саббаткой вывезли сначала в ставку главнокомандующего, затем в Петербург, где все арестованные были заключены в Петропавловскую крепость. Вскоре после ареста были перехвачены письма короля и письма банкира Гоцковского. Банкир сообщал Тотлебену, что король обещает два миллиона за склонение российского двора в его пользу.
Следствие по делу Тотлебена вела особая военная комиссия под председательством бывшего кенигсбергского губернатора, барона Корфа. На допросе Тотлебен извивался, как придавленная палкой змея. Он показал, что его сношения с королем были целиком направлены к пользе и славе России. Он-де рассчитывал при удобных обстоятельствах заманить короля на личное свидание и во время рандеву захватить его в плен.
Суд постановил: «Тотлебена, как изменника, казнить смертию. Саббатку освободить, ибо он был лишь письмоносцем и шпионом Тотлебена»[7].
4
Тем временем на арене войны происходили небольшие, но подчас кровавые стычки между мелкими частями борющихся сторон. Бутурлину было предписано Петербургом оставить Польшу и вести армию в Силезию, на соединение с австрийским корпусом барона Лаудона. Обе армии, русская и австрийская, должны были идти друг другу навстречу. А корпус Румянцева шел осаждать Кольберг.
Русская и австрийская армии соединились лишь в августе и вскоре вошли в соприкосновение с войсками Фридриха. Видя пред собой столь грозную силу, Фридрих струсил и быстро отошел под защиту пушек прекрасно укрепленного города Швейдница, в сорока верстах от Бреславля, в Силезии. Изнемогающий Фридрих, потерявший многих своих талантливых военачальников и с трудом набравший себе второсортную армию, теперь уже не отваживался нападать на врага, а предпочитал тактику оборонительную.
Союзники последовали за ним и окружили его армию кольцом с трех сторон. Положение Фридриха стало неимоверно трудным, он был заперт, как медведь в берлоге. Но охотники и на этот раз упустили зверя. Вместо того чтоб немедленно ударить на врага всей силой, союзники тратили дорогое время на военные совещания, излишние споры, сочинение сложных диспозиций. Лишенный мужества Бутурлин не слушался смелых советов Чернышева, мешая Лаудону, портил все дело.
А Фридрих не зевал. Работая темными ночами, он всей армией тайно рыл окопы, траншеи, волчьи ямы, воздвигал редуты, ставил батареи и чрез трое суток превратил свой лагерь в необоримую твердыню, вооруженную пятьюстами пушек. Время для успешного нападения на Фридриха было упущено. Союзные военачальники воочию убедились, что штурм прусских укреплений теперь стоил бы неисчислимых человеческих жертв.
Невзирая на строжайшие приказы Петербурга дать общими силами Фридриху бой, фельдмаршал Бутурлин на это не решился. На военном совете он сказал Лаудону:
– Ежели хотите, начинайте приступ. Только я на это дело больше одного корпуса пожертвовать не отважусь. Да и чего ради? Не из-за вас ли, австрийцев, вся эта каша-то заварилась?
Место тут было голодное, русские войска получали только хлеб да воду, и Бутурлин решил вести армию обратно в Польшу, оставив в лагере лишь двадцатитысячный корпус Чернышева.
Его отход принес много неприятностей как венскому двору, так и правящему Петербургу. Разгневавшись на Бутурлина, Елизавета писала ему: «Не скроем от вас, что этим известием мы были больше опечалены, чем если бы с войском нашим случилось какое-нибудь несчастие».
Фридрих все-таки боялся напасть даже на уменьшившиеся почти вдвое полки противника. Он снялся с места и отошел в глубь опустошенной своей страны. Вскоре после его ухода предприимчивый Лаудон, поддержанный частью войск Чернышева, быстрым налетом овладел богатым и хорошо укрепленным городом Швейдницем. В штурме особенно отличились русские гренадеры.
Вскоре пала и осажденная Румянцевым сильнейшая крепость Кольберг. Ключи крепости с торжественным донесением о победе искусный полководец Румянцев отослал в Петербург. Из Кольберга и Швейдница большими толпами пригоняли в Кенигсберг пленных прусских офицеров и военачальников.
Спрашивается, каковы же были конечные результаты столь злосчастной для народов длительной войны?
Русская армия и армия австрийцев представляли собою грозную свежую силу в двести тысяч бойцов. Фридрих же располагал всего лишь шестьюдесятью тысячами наскоро обученных, плохо одетых солдат. После Кунерсдорфской, славной для русского оружия, битвы Фридрих уже не мог оправиться. Его армия потеряла дух, лучшие офицеры были побиты или попали в плен. Фридрих сам не скрывал, что войско его совсем не то, каким оно было в начале войны. Он говорил своим друзьям:
– Мое теперешнее войско годится только для того, чтобы пугать им неприятеля издали.
Фридрих сознавал, что его враги, сохранившие боевую готовность своих армий, хотя медленно, но достигают желаемой цели и что борьба для него становится невозможною. Сколько-нибудь улучшить свое положение у Фридриха не было никаких надежд. За долгие годы войны Пруссия пришла в нищету, людей у Фридриха нет, денег нет, продуктов нет, в стране начались волнения. Круг судьбы Фридриха замыкался. Теперь ничто не могло спасти его, кроме чуда или счастливой случайности.
Глава VII
Петр Федорович III – Император всероссийский
1
Каждая жизнь на земле, как и жизнь властелинов, кончается смертью.
Около трех часов пополудни, 25 декабря 1761 года, в праздник рождества Христова, скончалась в старом зимнем дворце императрица Елизавета, «привенчанная»[8] дочь Петра I и «непомнящей родства» Екатерины.
Очень полная, высокого роста, с лицом одутловатым, но величественным и спокойным, бывшая государыня тяжко лежала на легких, умятых пуховиках, по грудь прикрытая шелковым, ярко-табачного цвета, одеялом. Изящные руки с побледневшими ногтями сложены на груди по-православному, крест-накрест. Изголовье взбито, приподнято. Наволочка с правой стороны в еще непросохших слезах: покидать жизнь веселую и трудную, оставлять обширную державу в бессильных руках злосчастного, черт его возьми, племянника было тяжело государыне сверх меры. И чудилось, что, чуть вскинув черные, выразительные брови, она грозит новому императору мертвым взором, ненавидит его, шлет ему проклятия.
За час до смерти Елизаветы наследник престола сидел в комнате рядом со спальней, где умирала императрица, и с нетерпением ожидал конца. А за две комнаты от спальни помещались сановитые князь Никита Трубецкой и генерал кригс-комиссар А.И. Глебов. В этой комнате толпилась кучка перепуганной знати, перешептывались, трясли головами, нюхали табак, утирали носы платками. Восседавшие за письменным столом Трубецкой и Глебов кивком пальца подзывали по очереди близких к наследству особ, тихо переговаривались с ними, что-то писали, ходили с докладами к наследнику.
По галереям, коридорам, во всем дворце царила суматоха.
При последнем вздохе государыни были: новый император Петр Федорович III, новая императрица Екатерина Алексеевна и четыре врача, не смогшие продлить угасающую жизнь и на четыре секунды. Старший из них, лейб-медик Мунзей, повернувшись к царствующим особам, опустив голову, взор, руки, взволнованно по-французски объявил о кончине государыни.
Петр Федорович, подмигнув покойнице, лейб-медику и всему миру, сделал лицо елико возможно постным. Екатерина, всхлипнув, прикрыла ладонью припухшие от долгих слез глаза. Она вся в крайней тревоге. Обычное самообладание оставило ее. С особой остротой в ее мыслях промелькнула еще не остывшая сцена, происшедшая сегодня поутру. К ней дерзновенно проник Григорий Орлов. От имени капитана гвардии князя Михаила Дашкова, волнуясь и устремляя на Екатерину умоляющие, в слезах, глаза, Орлов сказал: «Повели, владычица сердец наших, мы тебя возведем на престол». Перепутанная Екатерина, привскочив с кресла, зажала его рот ладонью, зашептала: «Бога ради… Как можно сие? Бросьте вздор!» Поцеловав ароматную ладонь ее, он уже с большей настойчивостью стал торопливо говорить: «Ваше высочество… Ловите момент… Государыня кончается… Мы все в страхе за судьбу любезного отечества… Мы все умрем за вас. Не медлите, решайтесь!» – «Нет, нет, – ответила она, чувствуя, как разрывается под корсажем ее сердце, – ваше предприятие есть рановременное, плод еще не созрел. Давайте ждать… Что бог захочет, то и будет». И вот теперь у постели скончавшейся императрицы она готова упрекать себя за свой нерешительный, бабий ответ мужественному гвардейцу. «Господи, помоги, помоги мне», – шепчет она.
Открылись двери. Из приемной чинно, парами вошли члены Сената, придворные и сановники высших рангов. Зал огласился рыданиями. Екатерина тоже заплакала, кинулась к покойнице, с искренней горестью припала к ее груди.
Узкоплечий император состроил гримасу «себе на уме», быстро повернулся кругом и, с пристуком переставляя негнувшиеся ноги и приподняв правое плечо, вышел. По коридору, на виду у публики, царь вышагивал размеренно и четко, он держал левую руку у шпаги, правой чуть помахивал; но чем ближе к своей комнате, тем походка его становилась быстрее, вот он вбежал к себе, притопнул, неестественно захохотал, подхватил на руки пыхтящую собачонку, стал с ней кружиться, взахлеб выкрикивать:
– Томи, Томи!.. Я император… Я император, самодержец всероссийский!.. Наконец-то, Томи… Довольно нам неприятных встреч с тетушкой… Что, что? Ты у кого на руках, псина собачья? Пошла вон, пошла вон! – Петр швырнул собачонку через стол в кресло. – Смирно! На караул! – и, подтянувшись и помахивая чуть согнутой в локте длинной рукой, приблизился к зеркалу, стукнул каблук в каблук. – Ваше величество! Мы, божией милостью, император и самодержец всероссийский. – И как бы спохватился, прищелкнул пальцами, отпрянул от зеркала прочь. – Шляпу-шляпу-шляпу… – надвигал на глаза неуклюжую голштинскую шляпищу с пером (и без того небольшое лицо его сразу стало маленьким, детским, треугольным), выхватил из ножен шпагу и, вскинув ее, по всем правилам торжественных парадов продефилировал перед портретом Фридриха Прусского. – Салют! Салют! – Повернулся и еще раз прошел, повернулся и еще раз прошел грудью вперед, салютуя шпагой. – Фридрих… Великий Фридрих, брат мой!.. Отныне я, император всероссийский, вечный твой друг… Вся моя армия и весь я к твоим услугам, дорогой добрый брат и отец мой великий Фридрих. Эй, кто там? Трубку императору! И… кружку пива…
Не однажды битый, но любимый им лакей, губастый пожилой арап Нарцис исполнил приказ. Петр с жадностью выпил пиво.
– Еще кружку! И Мельгунова сюда… Император требует к себе. Император!..
Вторую кружку с особой учтивостью величаво и чванно подал на серебряном подносе сам генерал-полковник Мельгунов. Государь с жадностью осушил и эту объемистую кружку: округлый, стянутый кушаком живот его заметно раздулся.
– Слушай, Алексей Петрович! – скрипящим, крикливым голосом воскликнул новый государь. – Я, император, приказываю тебе… – Он напыжился, сдвинул жидковатые брови. Большие, на полудетском лице, темные глаза его улыбались и серьезились, улыбались и прикидывались грозными. Он впервые повелевал как неограниченный владыка. От часто произносимого им слова «император» кровь приятно вскипала в нем, как от шампанского, и всякий раз бросалась в голову. – Передай государыне императрице, что сам император просит ее величество оставаться при теле почившей государыни и ожидать распоряжений государя императора, то есть моих.
«Полуглупо, как всегда», – внутренно усмехнулся умный Мельгунов, сказал:
– Слушаю, ваше величество, – и вышел.
Гремя серебряными шпорами, Петр величаво изволил проследовать в свою опочивальню. Тяжелая дверь льстиво заскрипела: «Император». Он видит – все стоит перед ним в страхе, навытяжку: сотни оловянных и вылепленных из теста раскрашенных солдатиков, прусские всадники, расставленные наверху запылившихся шкафов, чучело прусского витязя в доспехах, скрипка, столы, стулья, кровать, с длинными чубуками трубки – все эти бездушные вещи глядят на своего владыку почтительно и удивленно.
Слабый мозг Петра горел, сердце взбалмошно выстукивало: «Император, император, император». Перекликались в клетках чижи со щеглами: «Император, император». Маятник мюнхенских часов размеренно отбрякивал: «Им-пе-ра-тор». Углы взнузданных губ государя полезли вверх, обнажая в благодарной улыбке коричневые от безмерного куренья и плохого ухода зубы.
И вдруг, омрачая эти минуты самовлюбленного величия, какая-то каналья осмелилась крикнуть повелителю в лицо:
– Дурак!
Петр Федорович разинул рот, заморгал правым глазом, выхватил шпагу, в два прыжка скакнул к медному кольцу, где жался желтый попугай, и с размаху ударил по птице шагой. Попугай, подсвистнув, перелетел на печку и еще два раза прогнусил: «Дурак…»
Государь затопал, в бешенстве завизжал, швырнул в анафемскую птичку игрушечной пушкой. Вбежавшему арапу, давясь словами и слюной, стал в торопливости выкрикивать:
– Поймать, поймать, поймать!.. Поймать эту ку-ку-ку-рицу. Ощипать и бросить кошке… Кто ее научил? Кто ее научил? – и, красный, потный, выбежал в конференц-зал. – Я им покажу, я им всем покажу! Я не тетушка Елизавета в сарафане. Я, я… – бубнил он, не зная, чем успокоить себя.
2
В комнате с гробом читали Евангелие, окна открыты, втекал морозный воздух. Началась панихида, совершаемая знаменитым митрополитом новгородским Дмитрием Сеченовым. При пении придворным хором «Со святыми упокой» одетая в глубокий траур Екатерина и все присутствующие опустились на колени. Петр стоял столбом. Екатерина шептала ему: «Встаньте, встаньте на колени». Но тот никак не мог этого сделать: длинные голенища ботфорт необычайно узки, жестки, как железо, и столь туго напялены на ноги, что колени не сгибались. Петр обычно двигался, переставляя ноги, как деревянные ходули, а если нужно было сесть, он, подпрыгнув, шлепался сиденьем в кресло либо проделывал сложный акробатический прием: встав спиной к креслу, хватался за его поручни, выставляя ноги вперед в сильный наклон к полу и, скользя пятками по паркету, благополучно падал в кресло.
– Встаньте, прошу вас, – настойчиво повторила Екатерина, тщась не уронить высокого звания своего супруга в глазах новых его подданных.
Петр состроил гримасу и, выкинув ногами пируэт, попробовал опуститься. Левую ногу он оттянул елико возможно назад, сделал огромное усилие согнуть в колене и правую ногу, голенище громко заскрипело, как коростель в болоте, а нога и не думала сгибаться. Тогда Петр с отчаянием повалился лицом вперед в надежде справиться с деревянными ногами, лежа на полу. Он уперся ладонями в ковер и, оттопыривая зад и выгорбливая узкоплечую спину, тужился подволочить ноги к животу, чтоб всей силой согнуть их и хоть как-нибудь стать на колени. «О, черт», – кряхтел он, гримасничая, как на пытке, и скрежеща зубами. Видя безобразную и беспомощную позу его, два адъютанта живо подхватили государя под руки и враз вздыбили.
Пока вспотевший Петр корячился на полу, погребальное песнопение закончилось, все поднялись, злясь в душе на государя, что в столь трагическую минуту устроил такую гишпанскую комедию. От великой неприятности на щеках Екатерины сквозь пудру яркий проступил румянец. Екатерина негодовала на Петра и в то же время преисполнялась радостью: чем больше уронит себя новый император во мнении придворной знати, тем для нее лучше.
Митрополит произнес краткую речь, восхваляя деяния покойной и скорбя о том, что великая государыня безвременно скончалась.
– Слава богу, слава богу, слава богу, – скороговоркой выборматывал новый император, улыбаясь и подмигивая церковному, в золотой митре, краснобаю, а все присутствующие плакали, проливала слезы и Екатерина.
Затем все пошли в дворцовую церковь для принесения торжественной присяги. С крепости был пушечный салют.
В тот же день, в куртажной галерее, за три комнаты от покойницы, сервирован был на полтораста персон ужин, и, невзирая на траур, поведено было государем: всем быть на том ужине в светлом платье.
Подобное нарушение самых простых приличий прозвучало среди ошеломленной знати как явный вызов, как жесточайшее оскорбление издревле установленных обычаев.
Ужин проходил весело. Император, как водится, изрядно выпивал и в открытую амурничал с сидевшей против него любовницей Елизаветой Воронцовой. Мрачная, погруженная в свою печаль, с заплаканными глазами сидела рядом с царем Екатерина. За креслом Петра стоял осиротевший фаворит покойной императрицы Иван Иванович Шувалов. Он был полон искреннего горя, но и он принужден притворяться беспечным, радостным. Рядом с Екатериной толстобрюхий князь Никита Трубецкой. Сей «птенец Петра Великого», друг старика князя Кантемира, переживший семь царствований, видел падение многих своих милостивцев и благоприятелей, а иногда и сам участвовал в их гибели, но по своей изворотливости всегда умел вовремя оставить слабых и переброситься на сторону сильнейшую.
– Ваше императорское величество! – то и дело восклицает Никита Юрьевич Трубецкой, вытягивая жирную шею и стараясь зацеловать своего нового владыку взором преданного пса. Он прежде притворялся убогим и хилым, нынче счел полезным для своей карьеры затянуть свое тучное, на коротких ногах, тело в тугой мундир. – Не нахожу слов выразить вам, государь, радость, меня обуревающую, что наконец-то появился на земле русский великий царь, внук приснопамятного великого Петра… Радуюсь от всего сердца, что судьбы женского правления на Руси волею божией завершены. Отныне нами, россиянами, владеет повелитель…
Многие дамы с заплаканными глазами и многие вельможи – даже великий канцлер Михаил Ларионович Воронцов (дядя любовницы Петра) – взвесив льстивые выкрики этой старой увертливой лисы и не желая попасть в дурни, тоже принялись во все тяжкие распинаться в лести, стараясь захвалить быстро хмелевшего царя. Возмущенной Екатерине казалось, что бог в один момент лишил все это сиятельное общество стыда и чести. И ей стало страшно за себя, о чем впоследствии она и рассказывала своим близким.