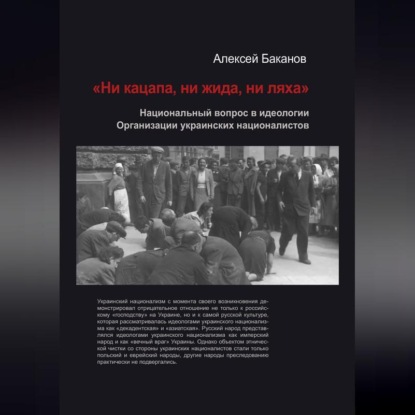Полная версия
Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике

Владимир Симиндей
Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике
Рецензенты:
д. и. н. М. И. Мельтюхов
к. и. н. А. И. Петренко
© Симиндей В. В., 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Вместо предисловия
В ХХ веке множество военных и мирных сюжетов в истории Прибалтики было самым тесным образом переплетено, связано с Россией, СССР и Германией. Две мировые войны оставили по-разному тяжелые следы в прошлом народов наших стран. В этой связи представляет определенный научный и общественный интерес то, какие интерпретации причин, хода и последствий мировых войн преобладают в современной прибалтийской историографии, а какие остаются на периферии. Во всяком случае, автор поставил перед собой задачу разобраться в национальной и националистической «оптике», сквозь которую рассматриваются ключевые проблемы данной тематики. В ходе работы над книгой предстояло затрону ть и вопрос о том, соблюдается ли баланс локальных, региональных, национальных, европейских и мировых перспектив в изложении фактов прошлого в условиях предвзятого отношения к России/СССР.
Почему в годы Первой мировой войны случаи военного коллаборационизма с немцами литовцев, латышей и эстонцев были почти исключены, однако возникали (про)германские политические прожекты с их участием? Сказались ли на дальнейшем массовом сотрудничестве с нацистами идейные заимствования в межвоенный период из Германии и фашистской Италии, лесть в их адрес, официозный национализм, готовность руководства прибалтийских государств идти в фарватере гитлеровской внешней политики в 1939 г., наконец, советские репрессии в 1940–1941 гг.? Какие представления доминируют в местной исторической памяти и историографии? Как прибалтийская националистическая «оптика» искажает события и оценки двух мировых войн в этом регионе? Как сочетается апология сотрудничества с немецкими нацистами и русофобия в государственной исторической политике, учебниках истории? Кто именно «опрокидывает» в прошлое современные политические установки? Автор на основе разнообразного фактического материала (в том числе на латышском, литовском и эстонском языках) предпринял попытку ответить на эти и связанные с ними вопросы.
Книга предназначена для ученых, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей России и Прибалтики в ХХ веке, современными исследованиями войн, сопротивления нацистам и сотрудничества с ними в этом регионе, вопросами государственной исторической политики и исторической памяти в Латвии, Литве и Эстонии.
I. История и историография
Прибалтийский край и Литва в годы Первой мировой войны
Мировая война, ставшая роковым периодом в истории царской России, коренным образом повлияла на социально-политические процессы в Прибалтийском крае, на самосознание его населения и предопределила передел восточного побережья Балтики, с XVIII века находившегося под властью российских императоров. Глубина и трагизм деформации прибалтийских окраин России особенно ярко отражается в латвийском сюжете, так как именно на территории будущей Латвии длительное время велись боевые действия (в отличие от Литвы, в 1915 г. почти полностью захваченной германскими войсками, или Эстонии, столкнувшейся с немецкой оккупацией в основном только в феврале 1918 г.).
Вместе с тем события Гражданской войны и разного рода интервенций (немецкое, французское, британское и американское военное присутствие в регионе), обозначаемые в официальных документах и национальных историографиях как «Освободительная война»,[1] формирование различных органов власти, военно-политическое поражение коммунистов и события середины ХХ века заметно вытеснили Первую мировую войну на периферию общественного сознания. Данная тематика лишь опосредованно использовалась властями и оппозиционными группами в политической мифологии создания независимой государственности. Исключением, пожалуй, может служить лишь миф о латышских стрелках, своеобразным ответвлением которого стал уже советский миф о красных латышских стрелках. Не отрицая их соучастия в кровавых событиях Гражданской войны в России, особое внимание в официальной латвийской историографии обращают на их неучастие в расстреле царской семьи в Екатеринбурге. В остальном, можно сказать, продолжается «тотальная героизация в мемориализации». Так, в IX ежегоднике Военного музея Латвии опубликована статья под интригующим названием: «Латышские стрелки – интернационалисты или националисты» (по версии автора, национализм «проскальзывал» через большевизм).[2] А летом 2013 г. вышла в свет и с большой помпой была презентована в Военном музее Латвии книга-альбом «Собирайтесь под латышскими знаменами!»,[3] содержащая более 1,6 тыс. фотографий, репродукций и документов из различных музеев и частных коллекций.
Несмотря на распространение в Эстонии и Литве, а в особенности – в Латвии[4] различных негативистских представлений, например, о «четвертой большой трагедии, серьезно угрожавшей выживанию латышей»[5] и о «русских генералах, специально не жалевших наших боевых парней», в целом проблематика Первой мировой войны не относится к числу политически конфликтных для отношений с Россией вопросов. В связи с этим период 1914–1918 гг. практически не использовался в недружественных выпадах в адрес России по мере создания и реализации новой исторической политики (с 1991 г.).
Подобная «сдержанность»[6] особенно заметна на фоне навязчивого внимания к Рижскому мирному договору от 11 августа 1920 г. как якобы до сих пор действующему международно-правовому акту и «краеугольному камню латвийской государственности»,[7] а также из-за зацикленности властных кругов и официальной историографии стран Балтии на событиях 1939–1940 гг. и «оккупационной» риторике в адрес Москвы. В данных условиях, несмотря на иные разногласия и споры, все же представляется возможным проведение совместных мемориальных акций, увековечивающих память воинов Великой войны.
Эстония: на периферии военных действий
Территория нынешней Эстонии (Эстляндская губерния и северная часть Лифляндской) фактически находилась в прифронтовой полосе, а острова Моонзундского архипелага – Даго и Эзель – в 1917 г. подверглись германской оккупации. В эстонской исторической науке эти сюжеты всегда находились на периферии политического и научного интереса, хотя и отмечалась, например, стратегическая важность Таллинского военного порта и иной смежной военной инфраструктуры именно для России: «В предвоенные годы в Северной Эстонии были проведены невиданные по масштабу строительные работы по сооружению оборонительных укреплений и строительству шоссейных и узкоколейных дорог. На разные объекты строительства были привлечены помимо военных десятки тысяч человек – как местных, так и приехавших из внутренних губерний России. В Таллине быстрыми темпами были построены три кораблестроительных завода для крейсеров, миноносцев и подводных лодок».[8]
Однако в постсоветский период не обнаружено глубоких и одновременно детальных исследований Первой мировой войны. При этом февраль – март 1917 г. в Петрограде и события окончания войны на территории Эстляндии и части эстоноязычных районов Лифляндии использовались и продолжают использоваться для выстраивания национальной мифологии создания эстонской государственности в период 1918–1920 гг.
Во всяком случае эстонская историческая мысль пока не знает такого уровня книг, посвященных политике и государственному управлению в период Первой мировой войны в Прибалтийском крае, подобных, например, работе А. Бахтуриной «Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)».[9] Не удалось обнаружить серьезных эстонских изданий – монографий или статей – посвященных политике немецких оккупационных властей как в Курляндии (частично в Лифляндии), так и на эстонских островах. Исключение, пожалуй, составляет изданная Сааремааским музеем работа Х. Ояло «Сааремаа в огне войны. Осень 1917 г.».[10]
Трудно найти и специальные исследования, посвященные конкретным проявлениям военно-экономической политики Российской империи, военным операциям в период Первой мировой войны в Эстонии или Прибалтике в целом, за исключением узкоспециальных публикаций в региональном журнале «Балтфорт», да и то зачастую они принадлежат российским авторам.[11] И это несмотря на то, что в Таллине (Ревеле) была сосредоточена техническая база Балтийского флота, возведен специализированный военно-морской Русско-балтийский завод, а также завод «Ноблесснер» по строительству подводных лодок и многие другие.
В эстонской историографии не принято уделять особого внимания тому, что предвоенный и военный рост промышленного производства в Ревеле выразился и в резком изменении демографической ситуации. Так, в промышленные центры Эстонии наряду с местным пролетариатом были приглашены и тысячи высококвалифицированных рабочих, техников и инженеров из Центральной России. Достаточно сказать, что в период немецкой оккупации 1918 г. и за несколько месяцев, ей предшествовавших, из одного только Ревеля в Россию эвакуировалась и бежала почти треть населения города – около 50 тыс. человек, в основном русских.
Как известно, в период с 1914 по 1918 г. в российскую армию было призвано в общей сложности до 100 тыс. мужчин-эстонцев. Национальные части (полки) были сформированы только в 1917 г. с согласия Временного правительства. Они дислоцировались в Эстонской губернии в границах, установленных Временным правительством, и в крупных войсковых операциях участия принять не успели. Поэтому эстонская историография, в отличие от латвийской, не уделяет большого внимания действиям эстонских подразделений в Первой мировой войне, акцентируя внимание на политической роли эстонских полков в период второй половины 1917 г. и начала 1918 г.
Тема Первой мировой войны обычно рассматривается эстонскими историками либо в обобщающих работах по истории Эстонии в целом,[12] либо в «Освободительной войне 1918–1920 гг.» в частности. Так, подробно рассматривается история Эстонии в период Первой мировой в многотомном издании «История Эстонии» (т. 5: «От падения крепостного права до Освободительной войны»).[13]
Как уже отмечалось, собственных обобщенных исследований Первой мировой войны эстонская историография не знает. Однако на эстонский язык переведены наиболее популярные работы американских, английских, немецких и финских авторов. Например, в 2011 г. был издан перевод с финского М. Харьюла «Эстония 1914–1922: мировая война, революция, независимость и Освободительная война».[14] Или перевод с французского мемуаров М. Палеолога «Царская Россия во время мировой войны»[15] (Таллин, 2010). (Мемуаристика вообще любимый жанр эстонских исторических издательств.) Ряд краеведческих работ посвящен инфраструктурным объектам периода Первой мировой войны. К таким работам можно отнести, например, брошюру М. Эйнсалу и О. Орро «Рохукюла. Забытая военная гавань Российской империи и другие архитектурные жемчужины».[16] В качестве мемуаров в 2009 г. опубликованы и дневниковые записи офицера-эстонца Ю. Тырванда «Участие в боях Первой мировой войны и в частях под командованием генерала Корнилова: дневник».[17] Особое внимание уделяется, как обычно, памятникам этнической истории. Так, эстонский историк Я. Росс выпустил в Кельне на английском языке брошюру и лазерный диск с записями голосов эстонцев, содержавшихся в немецких лагерях для военнопленных в 1916–1918.[18]
Сравнительно подробное описание боевых действий в прибрежных эстонских водах представлено в работе местного морского историка М. Ыуна и Х. Ояло «Сражения на Балтике 1914–1918: Первая мировая война в прибрежных водах».[19] Х. Ояло является и автором выпущенной в Тарту в 2007 г. истории подводной войны («В тени моря: подводная война на Балтике 1914–1919 и 1939–1945»), в которой весьма детально раскрывается эта тема.[20]
Собственно внутриполитическим аспектам Первой мировой войны посвящена статья К. Яансона «Эстонец Александр Кескюла и Берлин: дебют (сентябрь 1914 – май 1915 г.)», опубликованная в журнале «Tuna».[21] Статья посвящена малоизвестному историческому эпизоду, когда социалист А. Кескюла задолго до А. Парвуса попытался начать переговоры с Германией, чтобы побудить ее оказать помощь революционерам. Однако главный акцент автор делал на национальной революции, что, по справедливому мнению историка Яансона, не совсем соответствовало германским интересам: в Берлине опасались, что энергия национальной революции обратится против местных остзейских землевладельцев.
Такие темы, как «Февральская революция и рождение Эстляндской национальной губернии», «Постановление Временного правительства России от 30 марта 1917 г. – краеугольный камень эстонской государственности», «национальный вопрос в партийных программах», «выборы и политические столкновения», «борьба за различные формы государственности» и др. рассмотрены в книге М. Графа «Россия и Эстония. 1917–1991: Анатомия расставания».[22] Автор приходит к следующим выводам: «После революции и Гражданской войны в России Эстония путем тяжелых военных потерь и сложных дипломатических переговоров приобрела статус самостоятельного государства. Для маленького народа, который до Первой мировой войны не имел даже автономии, не говоря уже о государственности, это было большим достижением. Создание национального государства дало эстонскому народу возможность развивать собственную культуру и экономику, избавиться от угрозы потери собственной идентичности в составе Российской империи».[23] Однако М. Граф не удержался от «прогностических» домыслов в стиле апокалиптической альтернативной истории: «Какая судьба ожидала бы страну, если бы в Эстонско-русской войне 1918–1920 гг. победили красные и Эстония стала бы советской республикой? При таком исходе событий последствия для эстонцев оказались бы самыми трагическими, и под сомнение было бы поставлено само существование эстонской нации. Учитывая то обстоятельство, что в Советской России (СССР) беспощадно наказывали людей, да и целые народы, за так называемые контрреволюционные преступления, эстонцев ожидали бы репрессии и переселение во внутренние районы России».[24]
Приведенные примеры дают, на наш взгляд, достаточное представление об основных трендах в эстонской историографии данной тематики, так и не вышедшей в большинстве своем за рамки банального этноцентизма, националистических интерпретаций и, в лучшем случае, узкого краеведения.
Литва: оборона Ковенской крепости и долгая немецкая оккупация
Круг интересов литовской историографии Первой мировой войны определяется в основном лит уаноцентричностью, а сквозь эту призму – и ходом боевых действий на территории Литвы в 1914–1915 гг., подробностями отношений литовских властей («Литовская Тариба») с немцами в 1918 г. – от провозглашения 16 февраля 1918 г. Литвы отдельным государством, а 11 июля – королевством с приглашением на престол немецкого принца до отмены 2 ноября такого решения.[25]
При этом до сих пор классическими и даже непревзойденными считаются работы межвоенного периода, например «Литва в Великой войне» 1939 г.[26] или эмигрантский выпуск 1970 г. «Литва в узде царя и кайзера».[27] Именно они задали ориентиры дальнейшего формирования националистических и антироссийских мифов в современном восприятии событий Великой войны и ее последствий литовскими историками и обществом.
Особое внимание у местных историков вызывает оборона Ковенской крепости, подаваемая (не без оснований) как центральное событие всех боевых действий на территории Литвы в годы Великой войны. В связи с этим исследовательский интерес вызывает у них и история создания Ковенской крепости, сами фортификационные сооружения, комплектование гарнизона. Также имеются работы по изучению подготовки офицерских кадров в военно-учебных заведениях на территории Литвы, их биографий и боевого пути в годы Первой мировой войны.[28]
Как известно, захват Ковенской крепости после упорных боев в августе 1915 г. позволил кайзеровской армии оккупировать значительные территории Российской империи, включая почти всю Литву (например, Виленский край и Вильно были заняты немцами уже в сентябре 1915 г.).
В 2012 г. Институт военного наследия опубликовал на русском языке дополненный вариант книги-альбома каунасского историка и музееведа А. Поцюнаса, посвященного кропотливой реконструкции боев 1915 г. вокруг Ковенской крепости.[29] На сегодняшний день это, пожалуй, наиболее полное и богато иллюстрированное исследование по данной тематике, насыщенное фактическим материалом и оценками конкретных боевых действий сторон, впечатлениями местных жителей, отложившимися в социальной памяти литовского народа. В качестве примера в книге приводятся слова одного жителя города Ковно: «Ужасная и сногсшибательная картина! На горизонте ночи – горы, леса, тучи, земля и небо – все тяжело дышит в облаках огня под аккомпанемент прерывающего все это грохота. Окна сыпятся беспрерывно. Треск пулеметов и ружей сливается в один шум, как будто это буянит громадный вихрь. Залпы пушек каждую минуту встряхивают поверхность земли и небо, свист пролетающих снарядов кажется триумфальным полетом каких-то птиц ада».[30] При этом, в отличие от иных историков и публицистов, А. Поцюнас в своих критических замечаниях не переходит грань, за которой находится русофобское и антироссийское мифотворчество.
Литовские историки сходятся во мнении, что военные действия привели к разрушению хозяйственной и общественной жизни Литвы, однако отмечают, что длительная немецкая оккупация породила в литовском общественном мнении представление о том, что с Берлином будет легче договориться о «восстановлении» государственности, чем с Петроградом, где после Февральского переворота среди прочих «свобод» не провозгласили «свободу сепаратизма».
При этом немцы, не давая никаких авансов создания государственности на оккупированных территориях, разрешили литовцам 18–23 сентября 1917 г. провести в Вильнюсе «Литовскую конференцию». На ней был избран «Совет Литовского края», впоследствии переименованный в «Литовскую Тарибу» (председатель – Антанас Сметона, будущий авторитарный «вождь» страны).[31] Хотя в литовской политической мифологии «Литовской Тарибе» отводится ключевая роль в формировании («восстановлении») государственной самостоятельности Литвы, некоторые литовские историки все же упоминают о том, что этот орган «с довольно неопределенными полномочиями <…> как якобы представительный орган Литвы практически никаких соответствующих функций не выполнял, поскольку в условиях военной оккупации существование подлинно представительного органа немыслимо».[32] Политическим приговором выглядит оценка доктора истории З. Петраускаса: «В своей политике в Литве и непосредственно во взаимоотношениях с Литовским Советом германские власти считали его совещательно-информационным органом, а оккупационные власти – чуть ли не звеном своего аппарата».[33]
В литовской историографии обретения государственности скрупулезно отражен польский фактор в лавировании литовских общественно-политических сил. Как пишет доктор истории Ч. Лауринавичюс, «еще до окончания Первой мировой войны стало ясно, что возрождающееся польское государство не ограничится этнической территорией, но при благоприятных условиях станет расширяться на восток, на земли бывшей Речи Посполитой». Далее он отмечает: «Стремясь преградить путь Польше, литовские политики разрабатывали территориальные проекты, по которым Литва намеревалась включить в свой состав районы Гродненской губернии к югу от Немана. Таким образом, Гродненский край должен был сыграть роль естественного защитного барьера от польской экспансии».[34] При этом автор уклоняется давать собственную оценку попыткам литовцев защититься от поляков за счет белорусских территорий.
Октябрьский переворот, Брестский мирный договор, последующие события Гражданской войны в России, вмешательство в них стран Антанты и Германии качественно изменили ситуацию, дав шанс литовским национальным и националистическим группировкам объявить и удержать суверенитет. При этом в литовской историографии отмечается тенденция преуменьшать степень влияния «благоприятных обстоятельств» и преувеличивать усилия и героизм собственных политиков, дипломатов и военных.
На фоне некоторой историографической косности следует отметить заметные позитивные изменения в деле увековечивания памяти воинов Русской императорской армии и гражданских лиц православного вероисповедания, упокоенных в литовской земле.[35] Стараниями посольства России в Вильнюсе и НПО «Институт военного наследия» (при участии органов местного самоуправления, порой оправдывающихся перед национал-радикалами: «Криминала тут нет»[36]) в последние три года ведется большая работа по реставрации могил и мемориалов. Так, 11 ноября 2013 г., несмотря на недовольство и протесты «националов», обвинявших организаторов в «восхвалении столетней царской оккупации»,[37] состоялось открытие нового памятника на могилах русских воинов, захороненных у деревни Вайтишкяй Мариямпольского округа Литвы.
Национальная мифология касается и первого солдата Русской императорской армии. Как отмечает Ю. Тракшялис, «считается, что после 3 августа 1914 г. до начала Восточно-прусской операции, когда был захвачен нынешний город Кудиркос-Науместис, погибло 500 человек. И первым погибшим считается литовец. И именно этому литовцу мы поставили первый свой памятник, он установлен в городе Кудиркос-Науместис».[38]
В целом современная литовская историография характеризуется литуаноцентричностью, при этом столетие начала Великой войны и работы по восстановлению воинских кладбищ вызывают в литовском обществе как раздражение, так и некоторый интерес не только к «своим» могилам и предкам.
Латвия: героика и поиск политической ниши
В латвийской историографии можно обнаружить консенсус относительно того, что начало боевых действий против кайзеровской Германии в августе 1914 г. вызвало сильный всплеск антинемецких настроений и «верноподданнического энтузиазма» в Курляндской и Лифляндской губерниях. Там Великая война воспринималась как борьба с историческим недругом, источником многовековых колонизационных волн. Современные латвийские историки особо отмечают этот «антигерманский настрой, временами перераставший в своего рода истерию».[39]
Культурная, социально-экономическая и политическая эмансипация латышей во второй половине XIX – начале XX века, происходившая не без поддержки некоторых петербургских и московских общественных кругов, сталкивалась с ожесточенным сопротивлением остзейского дворянства и бюргерства. Кровавые события 1905 г. и последовавшие репрессии лишь укрепили влияние балтийских немцев, оставив без своевременного и должного разрешения межэтнические и социально-экономические противоречия в регионе. В этих условиях открытое столкновение российских и германских интересов на полях Первой мировой войны вывело латышское общество из депрессивного состояния и дало легальный повод для проявления антинемецких настроений в ожидании встречных позитивных шагов царской администрации.
Современные латышские историки, характеризуя ситуацию 1914 – начала 1915 г., отмечают, что «война разбудила латышей от национально-политического оцепенения». По их мнению, «участие России и других европейских держав в войне с Германией словно вселило в латышский народ удивительное и невероятное чувство, дав понять, что его давний враг – одновременно и враг многих европейских народов».[40] В этой обстановке латышские национальные круги, по мнению исследователей, постарались не упустить возможность создать предпосылки для послевоенного изменения своего положения за счет свертывания остаточных остзейских привилегий. Однако, подчеркивают они, и сам особый статус прибалтийских провинций, и опыт отстаивания своих позиций балтийско-немецким дворянством в спорах с имперским руководством в Петербурге и его представителями на местах не мог не оставить следа в умах латышской элиты.
Представляется, что этот фактор повлиял на формирование идеи автономии Латвии в рамках России, набиравшей популярность в годы Великой войны как среди левых активистов различных оттенков, так и у правонационалистических общественных деятелей. Как отмечает в связи с этим российский исследователь Л. Воробьева, «чтобы освободиться от экономической и политической власти немецкого дворянства, добиться самоуправления, а также самоопределения в области культуры, представители “верхнего слоя” латышского населения были готовы опередить немцев в доказательствах своей лояльности самодержавию».[41]
Действительно, в 1914 г. в речах латышских политиков доминировали верноподданнические и лоялистские нотки. Так, 26 июля 1914 г. депутат Я. Голдманис заявил с трибуны IV Государственной думы: «Среди латышей и эстонцев нет ни единого человека, который бы не сознавал, что все то, что ими достигнуто в смысле благосостояния, достигнуто под защитой Русского Орла и что все то, что латыши и эстонцы должны еще достигнуть, возможно только тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет нераздельной частью Великой России. Поэтому мы можем видеть теперь у нас такой подъем духа, такой энтузиазм стать на защиту своего дорогого Отечества, что для нарисования правильной картины этого самые яркие краски были бы совершенно бледны. Эти великие дни доказывают, что ни национальность, ни язык, ни вероисповедание не мешают нам, латышам и эстонцам, быть горячими патриотами России и стать на защиту своего Отечества, стать плечом к плечу с великим русским народом против дерзкого врага».[42] Однако эти тезисы рассматриваются в современной латвийской историографии как «архаика», предшествовавшая быстрому разочарованию в царских властях с последующим выдвижением автономистских и/или революционных лозунгов.