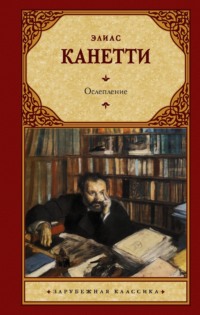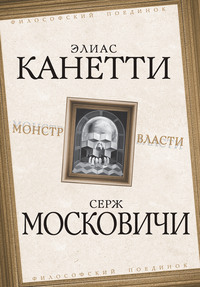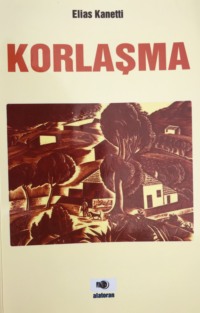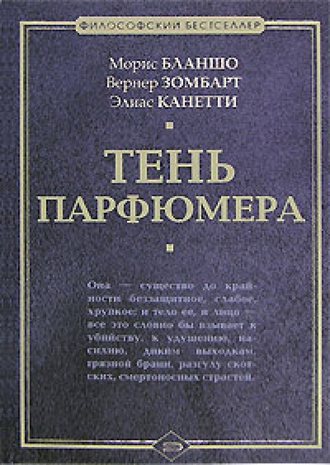
Полная версия
Тень парфюмера

Морис Бланшо
Тень парфюмера
От редакции
Поводом к изданию данного сборника послужил необыкновенный успех, который выпал на долю книги П. Зюскинда «Парфюмер» и на фильм, снятый по ее мотивам. Напомним, что главный герой этого произведения – Жан-Батист Гренуй – обладал удивительной способностью безошибочно различать все запахи и составлять их особые сочетания, воздействующие на психику людей. Сюжет в литературе не новый и достаточно банальный, если бы не одна страшная особенность: для создания своего сверхмощного психотропного средства Гренуй убивал молодых девушек, дабы использовать их секреции в создаваемом препарате.
Собственно, и эта жуткая история – история маньяка-изобретателя, – достаточно широко распространена в литературе «ужасов» и фильмах соответствующего направления, так что можно было бы не подводить философскую базу под очередной триллер-бестселлер, но книга Зюскинда все же содержит ряд вопросов, требующих осмысления. В чем причина феноменального успеха «Парфюмера», почему он понравился миллионам читателей и зрителей? Какие тайны человеческой души он отразил, какие стороны общественной жизни затронул?
Ответы на эти вопросы можно найти в трудах философов, написанных, как ни странно, задолго до появления произведения П. Зюскинда. Так, например, знаменитый французский мыслитель Морис Бланшо во многих своих работах анализирует особенности литературного творчества, читательского интереса, затрагивает тему пограничных состояний человеческой души, балансирующей между жизнью и смертью, между любовью и гибелью. Говоря о произведении литературы как о таковом, Бланшо отмечает, что «труд, созданный за счет одиночества и в среде одиночества, несет в себе взгляд на мир, интересующий всех, а также внутреннее суждение о других произведениях, о проблемах эпохи; становится причастным к тому, чем пренебрегает, враждебным тому, от чего отнекивается, – и безразличие его лицемерно смешивается с общей пристрастностью».
Примечательно, что ни один писатель, по мнению Бланшо, не знает заранее, какой эффект произведет его литературное детище, но «стоит только книге, возникшей случайно, созданной в наплыве небрежности и скуки, лишенной ценности и значения, вдруг быть превращенной обстоятельствами в шедевр, – какой писатель тогда в глубине души не припишет себе эту славу и не увидит в ней свою заслугу, в этом даре судьбы – плод своих усилий, работу своего ума в чудесном согласии с эпохой?».
Итак, книга Зюскинда была «превращена обстоятельствами в шедевр», – но что это за обстоятельства? Бланшо, оценивая состояние общества, которое он называет «продажным», пишет, что в таком обществе «между людьми могут существовать коммерческие связи, но никак не подлинная общность, никак не взаимопонимание, превосходящее любое использование «порядочных» приемов, будь они сколь угодно необычными». Далее следует вполне логичный вывод: извращенные отношения между людьми непременно предполагают и спрос на соответственную «непорядочную» литературу. На примере одного из литературных произведений Бланшо показывает, какие странные чувства порождает в главном герое вид любимой женщины: «И еще две особенности делают ее более реальной, чем сама реальность: она – существо до крайности беззащитное, слабое, хрупкое; и тело ее, и лицо, в зримых чертах которого таится его незримая суть, – все это словно бы взывает к убийству, к удушению, насилию, диким выходкам, грязной брани, разгулу скотских, смертоносных страстей». И далее: «Вам ведома лишь красота мертвых тел, во всем подобных вам самим. И вдруг вы замечаете разницу между красотой мертвецов и красотой находящегося перед вами существа, столь хрупкого, что вы одним мизинцем можете раздавить все его царственное величие. И вы осознаете, что здесь, в этом существе, вызревает болезнь смерти, что раскрывшаяся перед вами форма возвещает вам об этой болезни».
От таких чувств, – от любви, вызывающей желание убийства, от созерцания живой красоты, ассоциирующейся с заключенной в ней «болезнью смерти», – остается уже только один шаг до безумия, до маниакальных наклонностей. Бланшо прекрасно отображает это в следующем отрывке, в котором говорится о выборе, определяющем суть современного мира: «Если разум, власть мысли, исключает безумие как саму невозможность, то разве мысль, в сущности ставшая для себя безвластной властью, ставящая под сомнение свое тождество с единственной возможностью, не должна как-то отойти от себя самой и от посреднической и терпеливой работы к бездеятельному, нетерпеливому, безрезультатному и тщетному поиску? Не могла ли она подойти к тому возможному крайнему измерению, именуемому безумием, и, проходя мимо, впасть в него?»
Безумие одиночки, безумие индивидуума Бланшо проецирует на проблему существования различных «сообществ», что вполне справедливо, поскольку, по его словам «обособленное существо – это индивид, а индивид – всего лишь абстракция, экзистенция в том виде, в каком представляет ее себе дебильное сознание заурядного либерализма». Любой индивид, хочет он того или нет, подвержен влиянию «животного царства духа», господствующему в современном обществе.
Здесь следует особо отметить, что, хотя действие романа «Парфюмер» разворачивается в XVIII веке, Зюскинд, конечно же, пишет о состоянии именно современного общества. Век XVIII – это всего лишь эффектный фон для сюжетной линии. Герой романа, как каждый индивид, связан с той общественной средой, в которой он живет, – он ее царь, и он ее раб. Общественную среду, а точнее толпу, массу, в которую вливаются, как ручьи в море, отдельные личности, описывал в своих работах другой известный философ (а также социолог и антрополог) прошлого столетия Элиас Канетти. Он исследовал те страхи и настроения, которые свойственны массе, писал о довлеющих над ней жажде разрушения, чувстве преследования, панике и т. д.
Одними из главных черт массы Канетти считал «стремление пережить других как страсть» и притворство, «ношение масок». В первом случае, говорил Канетти, смерть других живых существ дает представителю массы сознание собственного превосходства, собственной значимости и неуязвимости: «Как умерщвляют животное, чтобы употребить его в пищу, когда оно беззащитно лежит перед тобой и можно разрезать его на куски, разделить, как добычу, которую проглотишь ты и твои близкие, так хочется убить и человека, который оказался у тебя на пути, который тебе противодействует, стоит перед тобой прямо, как враг. Хочется повергнуть его, чтобы почувствовать, что ты еще тут, а его уже нет. Но он не должен исчезнуть совсем, его телесное присутствие в виде трупа необходимо для этого чувства триумфа. Теперь можно делать с ним что угодно, а он тебе совсем ничего не сделает. Он лежит, он навсегда останется лежать, он никогда уже не поднимется. Можно забрать у него оружие; можно вырезать части его тела и сохранить навсегда, как трофей. Этот миг конфронтации с убитым наполняет оставшегося в живых силой особого рода, которую не сравнить ни с каким другим видом силы. Нет другого мгновения, которое так хотелось бы повторить».
Во втором случае Канетти пишет о великом значении притворства, «маски» для существования индивида в массе: «Маска полноценна, когда исключительно она перед нами, а то, что за ней, остается непознаваемым. Чем определеннее она сама, тем туманнее то, что за нею. Никто не знает, что могло бы вырваться из-под маски. Напряжение между застылостью маски и тайной, которая за ней сокрыта, может достигать необычайной силы. Это и есть причина ее угрожающего воздействия. «Я именно то, что ты видишь, – как бы говорит маска, – а то, чего ты боишься, скрывается за мною». Она завораживает и одновременно заставляет держаться подальше. Никто не смеет ее тронуть. Смертью карается срывание маски кем-то другим. Пока она активна, она неприкосновенна, неуязвима, священна. Определенность маски, ее ясность заряжена неопределенностью. Власть ее в том и заключается, что она в точности известна, но непонятно, что она в себе таит. Она ясна снаружи, так сказать, только спереди».
Не этими ли качествами – умерщвлением как способом доказать свое превосходство и созданием «маски», воздействующей на сознание толпы, – определялись, в частности, поступки героя романа Зюскинда? Не похожими ли потаенными, но сильными желаниями определялся, в том числе, и успех «Парфюмера» у публики?..
В заключительной части нашего сборника приводятся отрывки из трудов немецкого философа, экономиста и социолога Вернера Зомбарта, где рассматриваются те ценности, которые привлекательны для «буржуа». Достичь преобладания над другими людьми любыми способами, отрицание моральных ограничений, – вот основы деятельности «буржуазных натур» (как называет их Зомбарт): «К великим победителям на ристалище современного капитализма имеет, пожалуй, общее применение то, что еще недавно сказали о Рокфеллере, что он «умел с почти наивным отсутствием способности с чем бы то ни было считаться, перескочить через всякую моральную преграду». Сам Джон Рокфеллер, мемуары которого являются превосходным зеркалом почти детски-наивного представления, резюмировал будто бы однажды свое credo в словах, что он готов платить своему заместителю миллион содержания, но тот должен… прежде всего «не иметь ни малейшей моральной щепетильности» и быть готовым «беспощадно заставлять умирать тысячи жертв».
В этом смысле героя романа «Парфюмер» можно назвать образцом буржуазной натуры: у него имелся свой способ достижения преобладания над людьми, во имя осуществления которого он мог действительно легко «перескочить через всякую моральную преграду».
Но Зомбарт, давая определение «позыву к могуществу», характерному для буржуазного духа, тут же выносит приговор этому «позыву», приговор, который может быть применен и к «Парфюмеру»: «Позыв к могуществу, который я бы обозначил как… признак современного духа, – это радость от того, что имеешь возможность показать свое превосходство над другими. [Но] это в конечном счете сознание в слабости… Человек истинного внутреннего и природного величия никогда не припишет внешнему могуществу особенно высокой ценности…»
Часть I
Морис Бланшо. Литература и право на смерть
Безусловно, можно писать, не спрашивая себя, зачем ты пишешь. Писатель, смотрящий, как перо его прочерчивает буквы, – имеет ли он право придержать его, чтобы сказать ему: Остановись! Что ты знаешь о себе? К чему ты стремишься? Почему ты не замечаешь, что чернила твои не оставляют следа, что ты так свободно продвигаешься потому, что перед тобой пустота, и не встречаешь препятствий лишь оттого, что так и не сдвинулось с изначальной точки? И тем не менее ты пишешь, пишешь без устали, раскрывая передо мной то, что я тебе диктую, и являя мне самому то, что я знаю; другие, читая, обогащают тебя тем, что от тебя взяли, и возвращают то, чему ты их научило. Теперь все не сделанное тобой обернулось сделанным, все не написанное – написанным: ты обречено на нестираемость.
Согласимся, что литература начинается тогда, когда ее ставят под вопрос. Этот вопрос – не то же самое, что сомнения и терзания писателя. Если ему и случается вопрошать к себе, когда он пишет, – это касается лишь его одного; будь он поглощен тем, что пишет, или безразличен к возможности писать, даже если ему вообще все равно, – это его личное дело и благодать. Но вот что неизменно: когда написана страница, в ней уже присутствует вопрос, который, возможно, без его ведома, не переставая мучил писателя, пока он писал; и теперь изнутри произведения ожидая приближения читателя – неважно какого, глубокомысленного или пустого, – молчаливо присутствует то же вопрошание в отношении языка, помимо человека, который пишет или читает, через язык, ставшее литературой.
За эти терзания по поводу себя самой литературу можно упрекнуть в самонадеянности. Они направлены на то, чтобы тщетно напоминать литературе о ее небытии, о ее несерьезности, недобросовестности, – сами эти попреки ставятся ей в вину. Она напускает важности, выдавая себя за предмет сомнений. Презирая себя, она самоутверждается. Она себя ищет, но это выходит за пределы ее задачи. Ибо, пожалуй, она одна из тех вещей, которые стоит найти, но не стоит искать.
Пожалуй, у литературы нет права считать себя необоснованной. Но вопрос, заключенный в ней, не касается, честно говоря, ее значимости и прав. Найти смысл этого вопроса столь трудно потому, что он стремится превратиться в некую тяжбу по поводу искусства, его возможностей и целей. Литература строится на собственных руинах: этот парадокс всем нам известен. Но, возможно, стоит понять, не предполагает ли это развенчание искусства, которое представлено наиболее успешным за последние тридцать лет направлением искусства, некое соскальзывание, перемещение действующей силы вовнутрь произведения и ее отказ выйти на свет, – силы, изначально не имеющей ничего общего с неприязнью к труду или к Предмету литературы.
Заметим, что литература, отрицая саму себя, никогда не ставила перед собой цели попросту изобличить искусство или художника в мистификации и подлоге. Литература необоснованна, в ней есть примесь обмана – да, несомненно. Но обнаружилось и нечто большее: литература не просто не обоснована, но она – ничто, и эта «ничтожность» представляет собой, пожалуй, небывалую, чудесную силу, при условии, что она берется в чистом виде. Добиться того, чтобы литература обнаружила эту внутреннюю пустоту, чтобы она полностью раскрылась своей доле небытия и начала осуществляться как собственная невозможность, – такова одна из целей, которые преследовал сюрреализм, так что совершенно справедливо признавать в нем мощное движение разрушения, но не менее справедливо присуждать ему одну из величайших творческих амбиций, ибо литература здесь, на мгновение совпадая с ничто, тут же становится всем, все начинает существовать: вот так чудо. Никто не собирается наговаривать на литературу – вопрос в том, чтобы понять ее и увидеть, почему понимать ее можно, только умаляя ее достоинство. Мы с удивлением пришли к выводу, что вопрос «что такое литература?» никогда не получал достойного ответа. Но вот что еще страннее: в самой форме этого вопроса присутствует нечто, отнимающее у него всю серьезность. Спрашивать: что такое поэзия? что такое искусство? даже: что такое роман? – вполне возможно; это уже делалось. Но литература, будучи и поэмой, и романом, кажется пустой составляющей, присутствующей во всех этих важных вещах, обратившись к которой, мысль теряет всю свою серьезность. Когда какая-нибудь серьезная мысль обращается к литературе, то та становится каустической силой, способной разрушить все то, что и в ней самой, и в мысли было основательного. А стоит только мысли отойти, как она вновь становится чем-то важным и существенным – более важным, чем философия, религия, да и жизнь мира, которой она занимается. Мысль же, дивясь на эту империю, немедленно вновь поворачивается к ней и задается вопросом, что она такое; но тотчас проникнутая неуловимым разрушительным элементом, способная лишь презирать нечто столь бесполезное, смутное и нечистое, вновь погружается в это презрение и в эту бесполезность, как хорошо показала история Господина Теста[1].
Было бы ошибкой возлагать на современные нигилистические движения ответственность за то, что литература, казалось бы, превратилась в некую бестелесную и летучую силу. Около ста пятидесяти лет тому назад, человек, имеющий об искусстве самое возвышенное представление, которое только может возникнуть, – так как он видел, как искусство может стать религией, а религия искусством, – этот человек (по имени Гегель) описал все движения, с помощью которых тот, кто решил быть литератором, обрекает себя на принадлежность «животному царству духа». С первых шагов, говорит Гегель[2], индивидуума, желающего писать, останавливает следующее противоречие: чтобы писать, ему нужен писательский талант. Но любой талант сам по себе ничто. Пока усевшись за свой стол, писатель не напишет чего-нибудь – он не писатель и не может знать, есть ли у него способности, чтобы стать им. Талант появляется у него только после того, как он что-то написал, но он уже нужен ему чтобы писать.
Эта трудность с самого начала освещает аномалию, лежащую в основе писательского труда, которую писатель и должен, и не должен преодолевать. Пишущий – не идеалист-мечтатель, он не любуется изнутри красотой своей души, не довольствуется внутренним сознанием своих талантов. Эти таланты он пускает в дело, то есть необходимое дело, которое дало бы уверенность в них и в самом себе. Писатель находит и реализует себя только в процессе своего труда; в преддверии труда он не только не знает, кто он есть, но и он есть ничто. Он существует только после произведения, но тогда каким образом может существовать произведение?
«Индивид, – говорит Гегель, – не может знать, что есть он, до тех пор, пока не выйдет через совершение действия к действительной реальности; таким образом, получается, что он может определить цель своего действия до того, как произведет его; и в то же время он должен, будучи сознательным существом, изначально иметь перед собой действие как совокупно присвоенное, то есть цель». И так обстоит дело с каждым новым произведением, ибо все начинается с ничего. И то же самое, когда он создает произведение по частям: если у него нет перед собой полного проекта своего труда, как он может иметь его в качестве сознательной цели своих осознанных действий? А если произведение уже полностью присутствует у него в сознании и это присутствие и есть основной смысл произведения (полагая здесь, что слова не столь существенны), – тем более, зачем приступать к его осуществлению? То есть, либо в виде внутреннего проекта в нем уже все заложено, и писатель с этого момента уже знает о нем все, что можно о нем узнать, и оставляет его пребывать во мраке, так и не переведя его на слова, не написав его, – но при этом он не станет писать, не станет писателем; либо, приняв во внимание, что произведение должно быть не только задумано, но и осуществлено, что вся его ценность, истина и реальность заключены в словах, которые разворачивают его во времени, вписывают его в пространство, он садится писать, – но ни из чего не исходя и ничего не ожидая, – следуя одному выражению Гегеля, как ничто, работающее в ничто.
На деле эту проблему было бы никогда не преодолеть, если бы писатель, чтобы начать писать, ждал ее разрешения. «Именно поэтому, – замечает Гегель, – он должен начинать немедля и переходить к действию, презрев все обстоятельства и особо не задумываясь ни о начале, ни о средствах, ни о результате». Так он размыкает круг, ибо обстоятельства, при которых он пишет, становятся для него тем же, что и его талант, а его интерес к труду и само движение, позволяющее ему продвигаться вперед, присваивается им, и в них он видит свою цель. Валери часто напоминал нам, что его лучшие произведения рождались вследствие случайных заказов, а не по внутреннему требованию. Но что он в этом находил замечательного? Если бы он сам по себе начал писать «Эвполинос», по какой причине он бы это сделал? Оттого ли, что подержал в ладони ракушку? Или потому, что, открыв однажды утром Большую энциклопедию, он случайно прочел бы там имя «Эвполинос»?
Или желая попробовать форму диалога, он случайно оказался обладателем рукописи, подходящей для этой формы? В основе самого великого произведения можно углядеть самое ничтожное обстоятельство, – эта ничтожность ничего не компрометирует, – порыв, с помощью которого писатель делает это обстоятельство решающим, достаточен для того, чтобы оно было присовокуплено к его труду и к его таланту. В этом смысле альбом «Архитектуры», заказавший «Эвполиноса», оказался той формой, именно в которой у Валери изначально был талант написать это произведение: этот заказ и положил начало таланту, стал самим этим талантом, но необходимо также добавить, что заказ обрел реальную форму и стал действительным проектом только благодаря тому, что был уже и сам Валери и его талант, а также его связи в обществе, и интерес, который он уже ранее проявлял к такого рода сюжетам[3]. Всякое произведение есть работа обстоятельств; это просто-напроcто означает, что произведение было начато, имело во времени свою точку отсчета и что теперь эта временная точка принадлежит самому произведению, ибо без нее оно осталось бы непреодолимой проблемой, не чем иным, как невозможностью писать.
Предположим, произведение написано, а с ним возникает и писатель. Прежде написать его было некому, а с написанием книги рождается писатель, с ней отождествляемый. Когда Кафка случайно пишет фразу «он посмотрел в окно», то он находится, по его словам, в таком вдохновенном состоянии, что эта фраза уже оказывается совершенной. То есть по отношению к ней он – автор, или, вернее, он автор благодаря ей: ею определяется его существование, он ее сотворил, и она его сотворила, в нем она вся, и сам он целиком то же, что и она. В этом источник его радости – радости без примеси, без изъяна. Что бы он ни написал, «фраза уже совершенна». Такова глубокая и странная уверенность, которую искусство ставит себе как цель. Все написанное – написано ни плохо, ни хорошо; не является ни плохим, ни хорошим, ни важным, ни напрасным, ни памятным, ни достойным забвения: движение, через которое то, что внутри было ничем, возникает во внешней монументальной действительности, как нечто неизбавимо истинное, как некий несомненно верный перевод, – совершенно, ибо тот, кого оно переводит, существует только в нем и через него. Можно сказать, что такая уверенность – это как бы внутренний рай писателя и что автоматическое письмо было лишь способом сделать реальным этот золотой век: то что Гегель называет истинным благом перехода от ночи возможностей ко дню присутствия или уверенностью в том, что на свет рождается именно то, что дремало в ночи.
Но что из этого следует? Получается, у писателя, целиком вместившего себя и замкнувшегося во фразе «он посмотрел в окно», нельзя потребовать никакого оправдания самой фразы, потому что для него ничего, кроме нее, не существует. Но сама она, по крайней мере, существует – существует столь реально, что способна сделать написавшего ее писателем, потому что она не просто его фраза, но и фраза других людей, способных прочесть ее, всеобщая фраза.
Тогда-то и начинается сбивающее с толку испытание. Писатель видит, что другие интересуются его работой, но их интерес отличается от того, который позволяет ей стать прямым переводом его самого, и этот новый интерес изменяет сделанное им, превращает в нечто иное, где он не узнает первоначального совершенства.
Произведение исчезает для него и превращается в произведение других, такое, в котором они есть, но нет его самого, – в книгу, черпающую ценность из других книг, чья оригинальность состоит в том, что она на них не похожа, но понятна постольку, поскольку она – их отражение. И этим новым этапом писателю нельзя пренебречь. Как мы видели, он существует только через свое произведение, но произведение начинает существовать лишь став чужой, общедоступной вещью, воздвигаемой и разрушаемой столкновением с прочими реальными вещами. Таким образом, хотя он и причастен к произведению, само произведение исчезает. Этот момент его опыта особенно критичен. Чтобы преодолеть его, в игру вступают множество разных интерпретаций. Например, писатель хотел бы уберечь совершенство написанного, удерживая его как можно дальше от жизни внешнего мира. Произведение – это то, что написано им, а вовсе не купленная, прочитанная, истертая книга, восславленная или раздавленная ходом повседневности. Но тогда где же начинается или заканчивается произведение? В какой момент оно существует? Зачем передавать его общественности? Зачем, если необходимо сохранить в нем сияние чистого «я», выносить его наружу, заставляя осуществиться в «я» всех и каждого? Почему бы не оградить себя закрытым и тайным уединением, ничего не производя, кроме пустой вещи, затихающего эха? Или другой выход: писатель соглашается самоустраниться, чтобы принять в расчет лишь того, кто читает. Читатель и делает произведение: читая, он создает его; он и есть истинный творец, сознание и жизнь написанной вещи; у автора нет иной цели, кроме как писать для читателя и слиться с ним.
Но эта попытка обречена. Ибо читателю не нужно произведение, написанное для него, – он хочет как раз, чтобы он было странным, хочет найти в нем нечто неизвестное, другую реальность, дух иного, способный переделать его и сделаться им. Писатель, пишущий для какой-то конкретной публики, по сути, не пишет, – пишет сама эта публика, и именно поэтому она не может больше быть читателем; чтение только кажется таковым, на деле его нет. Отсюда незначительность произведений, созданных для чтения, их никто не читает. Отсюда опасность писать для других и показать им их самих. Так как другие хотят слышать не собственный голос, а голос другого – реальный, идущий из глубины голос, неуютный, как истина.