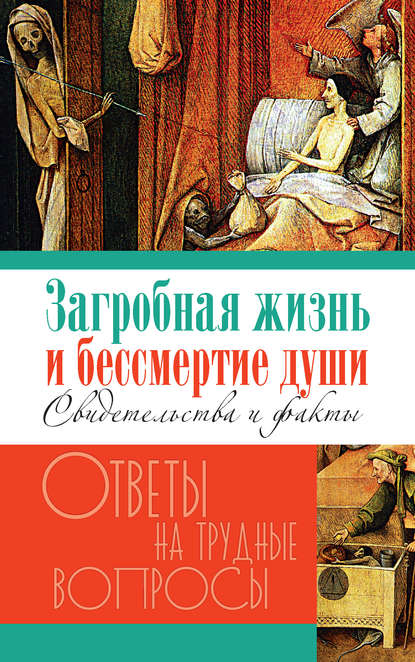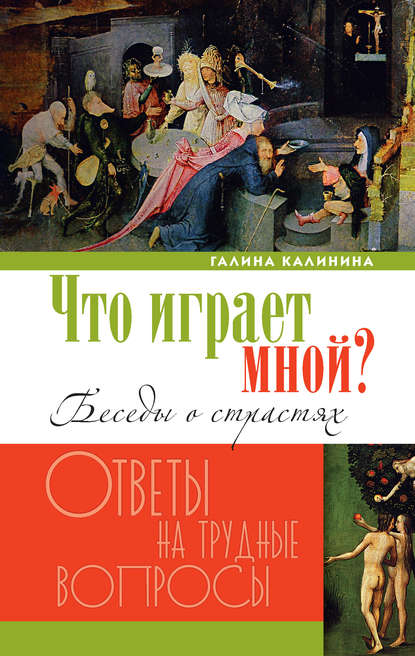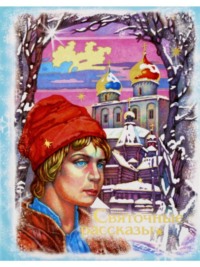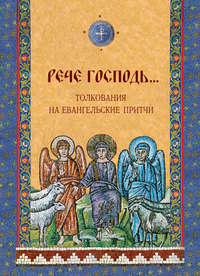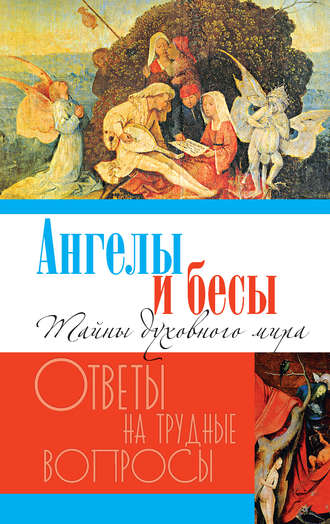
Полная версия
Ангелы и бесы. Тайны духовного мира
Много ли Ангелов? Можно ли исчислить их? Нет. Неизмеримо блаженство Ангелов, неизмеримо и число их. Они окружают престол Божий тьмами тем и тысячами тысяч. Видел я, – повествует пророк Даниил, – вот поставлены были престолы и воссел Ветхий деньми… Огненная река выходила и проводила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним (Дан. 7, 9–10). А пастыри вифлеемские в святую Рождественскую ночь видели многочисленное воинство Небесное, которое воспевало: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (ср.: Лк. 2, 14). Когда Господь Иисус Христос взят был в саду Гефсиманском и апостол Петр, в защиту Учителя своего, извлек меч свой, ударив раба первосвященникова, Господь сказал Петру: возврати меч твой в его место… или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более нежели двенадцать легионов Ангелов» (Мф. 26, 52).
Легионы Ангелов… Многочисленное воинство… Тьмы тем и тысячи тысяч… Видите, как слово Божие исчисляет Ангелов: всем этим оно хочет сказать нам: мир ангельский – необъятный. Вот почему в слове Божием и сравниваются Ангелы со звездами (Иов. 38, 7). Звездами можно любоваться, можно, взирая на них, прославлять Творца, но счесть их нельзя; так и Ангелов: можно им молиться, можно воспевать их, но сказать, сколько их, нельзя. Замечательные мысли о необъятности ангельского мира высказывает св. Кирилл Иерусалимский. «Представь, – говорит он, – как многочислен народ римский; представь, как многочисленны другие народы грубые, ныне существующие, и сколько их умерло за сто лет; представь, сколько погребено за тысячу лет; представь людей, начиная от Адама до настоящего дня: велико множество их, но оно еще мало в сравнении с Ангелами, которых более. Их девяносто девять овец, а род человеческий есть одна только овца; по обширности места должно судить и о многочисленности обитателей. Населяемая нами земля есть как бы некоторая точка, находящаяся в средоточии неба: посему, окружающее ее небо столь же большее имеет число обитателей, сколько больше пространство; а небеса небес содержат их необъятное число; тысячи тысяч служаху Ему, и тьмы тем предстояху Ему (Дан. 7, 10); это не потому, чтобы такое именно было число Ангелов, но потому, что большего числа пророк изречь не мог». Так велик, так необъятен ангельский мир! И какой порядок, какая дивная гармония, стройность и мир царят в ангельском мире при всей его необъятности! Не думайте искать среди Ангелов, взирая на взаимную любовь их, равенства или разнузданной свободы, что выставляется и проповедуется часто у нас как идеал, как верх совершенства. Нет, ничего подобного не найдете у Ангелов. «И там, – замечает один святитель, – одни начальствуют и предстоят, другие повинуются и последуют. Существенное и полное равенство находится только между тремя Лицами Пресвятыя Троицы: Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым».
Но, ах, зачем же, скажет кто-либо, различие, степени даже и среди небожителей? Неужели и на небе нельзя обойтись без чинов и степеней? Да притом, не вносят ли степени и чины в жизнь Ангелов некоторого разлада, некоторой дисгармонии? И разве возможно полное блаженство при неравном распределении его? Если и на небесах одни начальствуют и предстоят, другие же повинуются и последуют, то не получается ли и там того, что постоянно почти имеет место у нас на земле: повинующиеся и последующие не питают ли некоторого чувства зависти, некоторого недовольства по отношению к начальствующим и предстоящим? Высшее состояние одних и низшее других не бросает ли хотя бы и самой малой тени на светлую ангельскую жизнь? Все подобные недоуменные вопросы возникают в нас потому, что слишком к земле мы привязаны, так что и о небесном-то мы мыслим часто по-земному и на небо переносим то, с чем сроднились на земле, совершенно упуская при этом из виду самое основное, самое резкое отличие неба от земли: на земле – грех, на небе нет его. А от греха-то и происходят, и произрастают, как из корня, всякие ненормальности, всякие уклонения от правды и истины. Так и в данном случае: неразличие в степенях и чинах порождает в различаемых недовольство, зависть, а грех придает различию свой греховный оттенок суеты, исполняющей различие своею ядовитой горечью. Различие земное проистекает нередко из мелкого тщеславия, им питается и поддерживается, внося в высших чувства властолюбия, честолюбия, немилосердия, даже жестокости в отношении к низшим; в низших же поселяющее ропот, развивающее лесть, низкопоклонничество, человекоугодничество, лицемерие, раболепство. Все это – искажения греха. На небе не может быть этого. Чины и степени ангельские – это как бы различные тона одной и той же гармонии, различные краски единой картины великого Художника – Творца. Различие Ангелов – это различие звезд на небе голубом, различие цветов благоуханных на лугах зеленых; различие Ангелов – это различие голосов в хоре стройном, – различие, создающее гармонию, величие, красоту.
Откуда же знаем мы, возлюбленные, о чинах и степенях ангельских? Сказал, поведал нам об этом тот, кто сам, своими очами, видел эти чины и степени ангельские, кто сам слышал их песни умилительные, их гимны победные, – верховный апостол языков, Павел. «Знаю, – рассказывает он о себе, – человека во Христе, который… в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает, – восхищен был до третьего неба… в Рай, и слышал неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2–4). Нельзя потому, что не выдержит сердце, не вместит ум. Посему-то и не мог апостол Павел пересказать никому глаголов, слышанных им на небе. Но о том, каков строй жизни Ангелов, какие среди них есть степени, – обо всем этом Апостол пересказал своему ученику, которого он из язычников обратил ко Христу, когда был в Афинах. Имя этого ученика Павлова – Дионисий Ареопагит (он был членом Ареопага, верховного суда Афинского). Дионисий все, слышанное им от Павла, записал и составил книгу: «О Небесной иерархии».
Устройство ангельского мира по этой книге представляется в таком виде: все Ангелы разделяются на три лика, а в каждом лике находится по три чина.
Так, первый лик: в нем – три чина. Первый чин – Серафимы; второй чин – Херувимы; третий чин – Престолы.
Далее следует второй лик: в нем также три чина. Первый чин – Господства; второй чин – Силы; третий чин – Власти.
Наконец, третий лик, и в нем следующие три чина: первый чин – Начала; второй чин – Архангелы; третий чин – Ангелы.
Итак, вы видите, все Ангелы разделяются на три лика и на девять чинов. Так и принято говорить: «девять чинов ангельских». Какой божественный порядок, какая дивная стройность! Не замечаете ли вы, возлюбленные, в устройстве ангельского мира явного отпечатка Божества Самого? Бог един, но троичен в лицах. Смотрите: и в ангельском мире сияет этот Трисолнечный Свет. И, приметьте, какая строгая последовательность, какое чудное троичеекое расположение, троическое единство: один лик и три чина; и опять: один лик и три чина; и опять: один лик и три чина. Что это, как не ясное отображение Св. Троицы, не глубокий след Триединого Бога? Один Бог – один лик; три Лица – три чина. И, затем это повторение, это какое-то усиление, божественное умножение: лик один, лик один, лик один – один взят три раза; чинов: три, три, три – выходит: трижды три. Такое умножение, повторение, как бы подчеркивание не означают ли того, что сияние Трисолнечного Света изливается в ангельском мире особенно обильно, не только изливается, но и преизливается, что присносущная жизнь Источника Триединого течет в Небесных силах никогда не прерывающимся, изобильным, преумноженным потоком.
Да, глубока, непостижима тайна Триипостасного Божества, – точию Дух Божий испытует и ведает эти глубины Божий; глубока, непостижима тайна и трехчисленность мира ангельского – и сами Ангелы не вполне постигают ее. Воистину, «велий еси, Господи, и чудна дела Твоя, ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих!»
Остановимся теперь внимательнее на каждом чине ангельском в отдельности.
Что мы знаем об Ангелах?
Природа Ангелов
По своей природе Ангелы суть деятельные духи, имеющие разум, волю, знание. Они служат Богу, исполняют Его промыслительную волю и прославляют Его. Они – духи бесплотные и поскольку принадлежат к миру невидимому, не поддаются лицезрению нашими телесными очами. «Когда Ангелы, – наставляет прп. Иоанн Дамаскин, – по воле Божьей являются достойным людям, то являются не такими, каковы сами в себе, а в таком преображенном виде, в каком плотские могут видеть их». В повествовании книги Товита Ангел, сопровождающий Товита и его сына, сказал им о себе: все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, а только взорам вашим представлялось это (Тов. 12, 19).
«Впрочем, – высказывает мысль прп. Иоанн Дамаскин, – бестелесными и невещественными называется Ангел только по сравнению с нами. Ибо в сравнении с Богом, Единым несравнимым, все оказывается грубым и вещественным; одно Божество всецело невещественно и бестелесно».
Митр. Макарий. Догматическое богословиеПрирода Ангелов
По природе своей Ангелы суть духи бесплотные, совершеннейшие души человеческой, но ограниченные.
Ангелы суть духи
Так учит Св. Писание, когда говорит об Ангелах вообще: не вси ли суть служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих наследовати спасение (Евр. 1, 14); когда, в частности, приписывает им существенные свойства духа: ум и волю, упоминая о желании их приникнуть в тайну нашего искупления, о неведении ими последнего дня мира и об их святости и под.
Ангелы суть духи бесплотные
Эта мысль если не прямо выражена в Св. Писании, по крайней мере открывается из снесения разных мест его. В одном месте оно свидетельствует, что Ангелы суть духи (ср.: Евр. 1, 14), точно так, как и о Боге говорит: Дух есть Бог (Ин. 4, 21). В другом – объясняет, что дух плоти и кости не имать (Лк. 24, 39), даже и такой плоти, какова была плоть Христа Спасителя по воскресении, плоть прославленная, в которой Он мог входить к ученикам своим дверем затворенным (см.: Ин. 20, 19). В третьем – замечает собственно касательно Ангелов, что они, в противоположность людям, облеченным плотью, ни женятся, ни посягают (Мф. 22, 30), что они даже не могут умирать (ср.: Лк. 20, 35–36). И если бы Ангелы были облечены какою-либо плотью, как облечены люди: отчего, спрашивается, Слово Божие нигде прямо не упоминает о теле Ангелов, а называет их духами, тогда как людей нигде прямо не называет духами, но, приписывая им дух или душу, приписывает вместе и тело? Правда, есть в Библии сказания, что Ангелы нередко являлись людям в чувственных образах: но и сам Бог, по свидетельству Библии, являлся иногда в чувственном же виде. Это значит только, что как Бог, так и Ангелы, по воле Его, могут по временам принимать на себя какой-либо видимый для человека образ. Но выводить отсюда, будто Ангелы или Бог постоянно облечены телом, было бы неосновательно. Упоминается еще в Св. Писании о языке Ангелов, которым они славословят Бога, окружая престол Его (Ис. 6, 1–3; 1 Кор. 13, 1). Но как под именем престола Божия, без сомнения, нельзя разуметь престола вещественного, на котором будто бы Бог возседит, подобно царям земным; так, конечно, и языка Ангелов и их славословия не должно понимать в смысле чувственном: все это только образное представление предметов духовных, которые иначе не могут быть доступны понятиям человека. Мысль о бесплотности Ангелов была самою господствующею мыслью у св. отцов и учителей Церкви. Касательно же тех изречений отеческих, в которых Ангелам приписывается какая-либо вещественность или плотяность, надобно заметить следующее: а) Одни из древних христианских учителей, усвояя Ангелам телесность, хотели сказать только, что Ангелы имеют действительное (реальное) бытие: тело у этих учителей означало сущность или существо (substantia), и потому они иногда называли телесным даже Бога, как заметил еще блж. Августин о Тертуллиане. Здесь, следовательно, мысль верная, а неточность только в слове. б) Другие называли Ангелов телесными в том смысле, чго хотя они не облечены никакою плотью, но самая духовность их природы имеет свои границы и сравнительно с природою Бога, Существа высочайшего, является как бы дебелою и вещественною. Так, св. Иоанн Дамаскин, определивши, что Ангел есть существо бестелесное, присовокупляет: «впрочем, бестелесным и невещественным называется Ангел только по сравнению с нами. Ибо в сравнении с Богом, единым несравнимым, все оказывается грубым и вещественным; одно Божество всецело, невещественно и бестелесно». Мысль частная, но благочестивая, проистекающая, очевидно, из понятия о совершеннейшей духовности Божией и нимало не исключающая догматического учения Церкви, что Ангелы суть духи, не облеченные плотью. в) Третьи приписывали Ангелам телесность в том смысле, что они, как существа ограниченные, необходимо определяются местом и не могут быть в одно время везде. «Потому, говорит блж. Августин, мы называем разумные природы телесными, что они описываются местом, подобно душе человеческой, заключенной в теле». Значит, и эта мысль, усвояющая Ангелам телесность только в смысле переносном, не исключает положительного учения о бесплотности Ангелов. После изложенных замечаний остается уже самое ограниченное число древних учителей, которые, по-видимому, приписывали Ангелам тело в собственном смысле, хотя и тончайшее, эфирное или огненное, именно: Иустин мученик, Ориген, Мефодий, Феогност. Но это мнение их и должно считать только частным мнением немногих.
Свт. Григорий БогословПосле Троицы – светозарны невидимые Ангелы. Они свободно ходят вокруг великого престола – быстродвижимые умы, пламень и божественные духи и усердно служат высоким велениям Бога. У них нет ни супружества, ни скорбей, их не разделяют друг от друга ни члены, ни обители. Они все единомысленны и каждый тождествен сам с собой: одно естество, одна мысль, одна любовь – вокруг великого Царя Бога. Они не ищут утешения ни в детях, ни в супругах, ни в том, чтобы для них нести сладостные труды. Не вожделенно им богатство, не вожделенны и те помышления на злое, какие смертным приносит земля. Они не плавают по морям, не сеют в угождение необузданному чреву, этому исходищу греха. У них одна совершеннейшая пища – насыщать ум величием Божиим и в Светлой Троице черпать безмерный свет. Одинокую жизнь проводят эти чистые служители чистого Бога. Они просты, духовны, проникнуты светом, не от плоти ведут начало и не обретают плоти, но пребывают, какими созданы. Для них в девстве уготован путь Богоподобия, ведущий к Богу, согласный с намерениями Бессмертного, Который премудро правит кормилом великого мира.
Свт. Василий ВеликийАнгелам, которые не имеют никакого покрова, подобного нашей плоти, ничто не препятствует непрестанно взирать на лине славы Божией.
* * *Ангелы не претерпевают изменения. Нет между Ангелами ни отрока, ни юноши, ни старца, они остаются в том состоянии, в каком сотворены вначале, и состав их сохраняется чистым и неизменным.
Свт. Иоанн Златоуст(Ангельские силы) нисходят с крыльями не потому, чтобы у этой бестелесной силы были крылья, но в знак того, что они сходят с высочайших областей, оставив горние обители.
Прп. Иоанн ЛествичникАнгелы – бестелесные существа, они не пребывают без преуспеяния, но всегда приемлют славу к славе и разум к разуму.
Свт. Игнатий (Брянчанинов). Слово об АнгелахАнгелы и душа называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти, называются духом, как существа тонкие, совершенно отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир.
* * *Из… Священного Писания видна и причина, по которой Ангелы сокрыты от взоров человеческих. Причина эта заключается не столько в неспособности очей человеческих к видению бесплотных, сколько в нашем падении. Писание прямо говорит, что Бог отверз очи лжепророку Валааму, и он увидел Ангела; по мановению Божию увидела его и ослица Валаамова. Враги израильтян окружили некогда город, в котором жил великий пророк Елисей. Его слуга вышел рано из дому и, увидев, что войско с конницею и колесницами обступило город, пришел в страх и, возвратясь к пророку, сказал ему: О господине, что сотворим? И рече Елисей: не бойся, яко множае иже с нами, нежели с ними. И помолися Елисей и рече: Господи, отверзи ныне очи отрока, да узрит. И отверзе Господь очи его, и виде: и се гора исполнь коней, и колесница огненна окрест Елисея (4 Цар. 6, 15–17). По слову святого Андрея отверзлись очи сребролюбца, и он увидел Ангела тьмы. Словом сказать, тщательное исследование Священного Писания, отеческих писаний и Деяний ясно доказывают нам, что состояние падения соделало нас неспособными видеть Ангелов, что тем из святых отцов, которые достигли высочайшего совершенства и которые уже не могли быть обмануты Ангелами тьмы, был открыт мир духов. Таковыми были Антоний Великий, Макарий Египетский и Александрийский, Нифонт, епископ Кесарийский, и другие величайшие отцы, преимущественно достигшие крайней чистоты продолжительною и тщательною монашескою жизнью. Некоторый старец пришел в келлию Иоанна Колова и нашел его спящим, а Ангел веял над ним. Старец увидел это и удалился. Иоанн, когда восстал от сна, спросил ученика своего: Приходил ли сюда кто в то время, как я спал? Он отвечал, приходил такой-то старец. И уразумел авва Иоанн, что старец достиг его меры и видел Ангела[1]. Итак, достижение высокой меры чистоты и святости признавал великий угодник Божий причиною видения Ангела. Св. Макарий Великий научает, что немногие христиане достигают того, чтоб видеть души и Ангелов[2], что, однако, не препятствует этим христианам быть святыми: почему некоторые из святых однажды в жизни или весьма редко сподоблялись видения Ангелов, а иные и в течение всей жизни не сподоблялись видеть их, хотя ум их отчасти или вполне отверзт был к разумению Писаний. По особенному же Промыслу Божию видели Ангелов люди весьма обыкновенной жизни и даже порочной, как лжепророк Валаам. Весьма вероятно, что до падения Адам и Ева находились в общении с Ангелами света и беседовали с ними; это общение с Ангелами возвратил человечеству Искупитель, и все христиане, особливо благочестивой жизни, находятся в общении с ними благими помыслами и ощущениями, а совершенно очищенные и видят их. По смерти же и общем воскресении все христиане, сподобившиеся блаженной вечности, вступают в ближайшее общение с ними и видят их: потому что и человеки душами своими и прославленными бессмертными телами будут подобны и равны Ангелам по удостоверению Евангелия. Для видения Ангелов человеками нужно изменение в человеках: изменение это, или превращение, отнюдь не нужно для Ангелов. В будущем веке, по воскресении мертвых, человеки яко Ангела Божий на небеси суть (Мф. 22, 30), равни бо суть Ангелом, и сынове суть Божий воскресения сынове суще (Лк. 20, 36).
Сщмч. Дионисий Ареопагит. О Небесной иерархииГЛАВА I. О том, что всякое Божественное просвещение, по благости Божией различно сообщаемое тем, кои управляются Промыслом, само в себе просто, и не только просто, но и единотворит с собою просвещаемых
…В первоначальном установлении обрядов светейшая наша иерархия образована по подобию премирных Небесных чинов, и невещественные чины представлены в различных вещественных образах и уподобительных изображениях, с тою целию, чтобы мы, по мере сил наших, от священнейших изображений восходили к тому, что ими означается, – к простому и не имеющему никакого чувственного образа. Ибо ум наш не иначе может восходить к близости и созерцанию Небесных чинов, как при посредстве свойственного ему вещественного руководства: т. е. признавая видимые украшения отпечатками невидимого благолепия, чувственные благоухания – знамениями духовного раздаяния даров, вещественные светильники – образом невещественного озарения, пространные в храмах предлагаемые наставления – изображением умственного насыщения духа, порядок видимых украшений – указанием на стройный и постоянный порядок на небесах, принятие Божественной евхаристии – общением с Иисусом; кратко, все действия, принадлежащие Небесным существам, по самой их природе, нам преданы в символах. Итак, для сего-то возможного для нас богоуподобления, при благодетельном для нас установлении тайноначалия, которое и открывает взору нашему Небесные чины и нашу иерархию возможным уподоблением Божественному их священнослужению представляет сослужащею чинам Небесным, под чувственными образами предначертаны нам пренебесные умы в священных письменах, дабы мы чрез чувственное восходили к духовному, и чрез символические священные изображения – к простой, горней Небесной иерархии.
ГЛАВА II. О том, что Божественные и небесные предметы прилично изображаются под символами, даже с ними и несходными изображения для описания умных сил, не имеющих образа, имея в виду, как выше сказано, наш разум, заботясь о свойственной и ему сродной способности возвышаться от дольнего к горнему и приспособляя к его понятиям свои таинственные священные изображения
1. Итак, мне кажется, должно сперва изложить, какую мы назначаем цель всякой иерархии, и показать ту пользу, какую каждая доставляет созерцателям ея; потом – изобразить Небесные чины, соответственно таинственному учению о них Писания; наконец сказать, под какими священными изображениями Св. Писание представляет стройный порядок Небесных чинов, и указать ту степень простоты, которой надобно достигать посредством сих изображений. Последнее нужно для того, чтобы мы не представляли грубо, подобно невеждам, небесных и богоподобных умных сил, имеющими много ног и лиц, носящими скотский образ волов или звериный вид львов, с изогнутым клювом орлов, или с птичьими перьями; равно не воображали бы и того, будто на небе находятся огневидные колесницы, вещественные троны, нужные для восседания на них Божества, многоцветные кони, военачальники, вооруженные копьями, и многое тому подобное, показанное нам Св. Писанием под многоразличными таинственными символами (см.: Иез. 1, 7; Дан. 7, 9; Захар. 1, 8; 2 Мак. 3, 25; И. Нав. 5, 13). Ибо явно, что богословие употребило священные пиитические изображения для описания умных сил, не изменяющих образа, имея в виду, как выше сказано, наш разум, заботясь о свойственной и ему сродной способности возвышаться от дольнего к горнему и приспособляя к его понятиям свои таинственные священные изображения.
2. Если же кто соглашается, что сии священные описания следует принимать, так как существа простые сами в себе недоведомы для нас и невидимы, тот пусть знает еще, что чувственные изображения святых умов, встречающиеся в Св. Писании, несходны с ними и что все сии оттенки ангельских имен суть, так сказать, грубы. Но говорят: богословы, приступая к изображению в чувственном виде существ совершенно бестелесных, должны были отпечатлеть и представить их в образах, им свойственных и, сколько возможно, с ними сродных, заимствуя таковые образы от существ благороднейших – как бы невещественных и высших; а не представлять небесных, богоподобных и простых существ в земных и низких многоразличных изображениях. Ибо в первом случае и мы удобнее могли бы возноситься к горнему, и изображения премирных существ не имели бы совершенного несходства с изображаемым; тогда как в последнем случае и Божественные умные силы унижаются и наш разум заблуждает, прилепляясь к грубым изображениям. Быть может, иной в самом деле подумает, что небо наполнено множеством львов и коней, что там славословия состоят в мычании, что там стада птиц и других животных, что там находятся низкие вещи – и вообще все, что Св. Писание для объяснения чинов ангельских представляет в своих подобиях, которые совершенно несходны и ведут к неверному, неприличному и страстному. А по моему мнению, исследование истины показывает, что святейшая Премудрость, источник Писания, представляя Небесные умные силы в чувственных образах, и то и другое так устроила, что сим и Божественные силы не унижаются и мы не имеем крайней необходимости привязываться к земным и низким изображениям. Не без основания существа, не имеющие образа и вида, представляются в образах и очертаниях. Причиною сему, с одной стороны, то свойство нашей природы, что мы не можем непосредственно возноситься к созерцанию духовных предметов и имеем нужду в свойственных нам и приличных нашему естеству пособиях, которые бы в понятных для нас изображениях представляли неизобразимое и сверхчувственное; с другой стороны, то, что Св. Писанию, исполненному таинств, весьма прилично скрывать священную и таинственную истину премирных умов под непроницаемыми священными завесами и чрез то соделывать ее недоступною людям плотским. Ибо не все посвящены в таинства, и не во всех, как говорит Писание, есть разум (ср.: 1 Кор. 8, 7). А тем, которые стали бы порицать несходственные образы и говорить, что они неприличны и обезображивают красоту богоподобных и святых существ, довольно отвечать, что Св. Писание двояким образом выражает нам свои мысли.