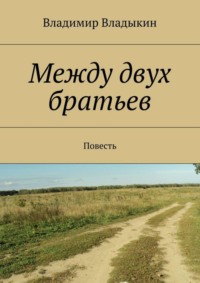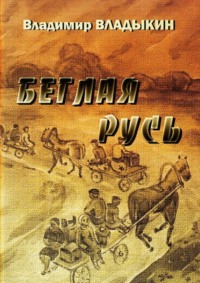Полная версия
Пущенные по миру. Роман в двух книгах. Хроника народной жизни (1917—1934)
Епифан подчас не замечал хитрости брата, но его действий в освоении скорняжного ремесла полностью не одобрял, потому что как артелей, так и коммун Егор сторонился, считая себя вполне способным обойтись без такого членства, живя на особинку. Вот ежели бы Епифан не состоял в лесничестве, тогда он непременно вступил бы в артель или коммуну по выделке из конопли пеньки и крутил бы из неё канаты и шпагаты. Между прочим, он тоже по-своему считал своё дело лесника поглавнее других, словом, каждому ближе было своё предназначение.
А Егор и впрямь всё откровенней и уверенней проявлял себя этаким прижимистым и гребущим всё и вся под себя хозяином. И не мудрено, что многим в селе его хватка нравилась, да только не всем она была по плечу и потому вызывала зависть.
Бывало, Епифан под хмельком, но, правда, не столь злобно прозывал брата «кулацким элементом», которого пора к ногтю, как врага всех бедняков. По совести говоря, к тому имелись у брата скрытые мотивы. Епифан исподволь чувствовал, как Егор понемногу налегал на него, пока делая ещё несмелые, как бы разведывательные попытки вытеснить вон из его половины. И действительно, однажды в бражный день присоветовал брату срубить с его, Егоровой, помощью избу, на что он готов даже выделить денег, а потом с его кровной братской поддержкой они быстро возведут хоромину. Старая же половина дома брата перейдёт к нему. Ведь он, Егор, желает расширить свое подворье, у него овец теперь много, шерсти скоплено порядочно, уже наловчился овчину выделывать. Да так, что любой скорняк ему позавидует, и тогда он наладит шитьё тулупов, в чем тоже понемногу приобрел должный навык, и дело его закрутится с новым размахом. А в тесном закутке старой избы уже не развернуться, чтобы организовать и оснастить мастерскую под пошив тулупов и полушубков, которые будут иметь несомненный спрос и станут его основной доходной статьей. Недавно смастерил пробные, возил в город на продажу и увидел, что это вполне надёжное и прибыльное ремесло, а если его наладить с умом и с настоящим размахом, тогда можно жить припеваючи…
Для начала своего дела Егор объездил город, достал почти новую швейную машинку немецкого производства, да одной стало мало – съездил ещё в Москву и у одного нэпмана выторговал в обмен на хлеб в придачу с деньгами: «Вот сучье вымя, ему ещё и хлеб подай, а сам же его хлебушек втридорога продаст, нэпманы все пройдошливые. Из воздуха могут делать деньги. Вот, пожалуй, у кого следует поучиться оборотливости и смекалке». За машинку ему пожертвовал чуть ли не весь запас хлеба, а себе оставил на пропитание с гулькин нос. Жена Настя как увидела проделку мужа, так чуть в обморок не упала. Егор сначала было прикрикнул на глупую бабу, а потом проникся жалостью и стал бедную жену успокаивать, чтоб в себя пришла. И после, когда объяснил ей своё дело, кажется, она прониклась его верой и больше ни в чём мужу не перечила.
А спустя время посадил за машинки свою жену и братнину, Софью, дабы начали шить выкроенные им полушубки. А крою научился довольно примитивным и неловким способом, для чего пожертвовал личным тулупом – распорол его по частям, как он некогда был сшит умелым мастером. Затем прикладывал на картон эти части и по ним вычертил кройки, и вот они готовы. Потом сшил тулуп заново, уже вручную, когда у него ещё не было машинок. И теперь тулуп, сшитый некогда ладно, было невозможно узнать – прежде всего взгляд поражали неровные, неуклюжие швы. Одна пола стала почему-то несоразмерно длиннее первой, а один рукав короче второго. И спинка сзади по кокетке перекосилась, но вполне носить его ещё можно. Живёт же иной человек после ужасного ранения, когда его приходится сшивать практически заново. На таких Егор вдоволь насмотрелся в лазаретах в германскую и гражданскую.
Словом, научившись кое-как крою, теперь он ходил довольный, потирал ладони, испытывая удовольствие от обретённого прибыльного ремесла. А скоро жены – его и брата – в охотку взялись за пошив. При этом, правда, Егор видел ревнивое недовольство Епифана, что приобщил к своему рискованному ремеслу его жену. А у Софьи прямо-таки глаза загорались, когда, наскоро справившись с домашними делами, она собиралась на его половину. Однако сколько Епифан её ни ругал и даже руку прикладывал, стоило ему податься в лес на свой охраняемый кордон, как она, словно заговорённая, всё равно уходила, накрепко привязанная к затее брата, чем больше всего распаляла в нем ярый гнев.
– Ты вот что, Егорка, кончай жинку манить к сабе, – как-то не утерпел Епифан, накинулся на брата. – Она все свои дела запустила, тараканов развелось – тьма! Да, из-за твоего ремесла, мне оно больно надо?
– Ладно, ладно, братан, не злись, ещё один денёк, и баста, обещаю её не звать, – и при этом весело похлопывал брата по плечу.
Однако неуёмная Софья в свободные часы продолжала пропадать на половине Егора, тем самым помогала подвигать его ремесло, а за детьми присматривала свекровь и порой защищала невестку:
– Да чаво ж ты её ругаешь, она же к делу приучается?
– Ох вы умники нашлись, а за скотиной кто будет смотреть?!
И вот однажды пригласил Егор к себе на чарку Епифана, связывая с этим давний свой умысел, от которого брат раньше без конца отказывался. Но у Егора теперь возникло поновей предложение. Он уверенно достал из поставца бутыль самогона-первача. Настя загодя выставила на стол закуску: солёные грибки, с мясом паренную картошку, солёные огурчики. Егор сразу бухнул по большому стакану ядреного первача. А когда залпом с выдохом выпили, потом закусили, Егор сложил перед собой на столе чинно руки с грубыми, толстыми от работы пальцами и, чуть навалившись на край стола, затеял откровенный разговор, мотивы которого Епифану были знакомы по предыдущим встречам. Но сейчас, видно, подход был совершенно другим.
– Ты, братан, на меня не серчай, я тебе никакой не фабрикант и не эксплуататор твоей жинки, а попросить для себя считаю необходимым, учитывая, что стоит пока зима. А для меня, сам знаешь, время крайне важное, чтобы товар шёл с ходу, одним словом, сезон, а летом я и сам понимаю: земля властно зовет, то да сё, а зимой можно, и ты не серчай на меня. Не за так же я прошу Софью, рубль какой дам завсегда и прочее…
– Да мне-то чаво, – замялся Епифан, добревший, когда его угощали и таким образом перед ним расшаркивались, а почтение к себе он был готов выслушивать бесконечно. И между тем брату в ответ сам говорил тоже откровенно, ведь перед ним не чужой ему человек, таиться нет никакой причины. – Пойми, Егорка, от людей стыдно. Ты ведь и сам небось слыхав, как тебя костерят по деревне, фабрикантом погоняют. Но не я, запомни, не я! Как табе иной раз спьяну покажется, – Епифан отвернулся, глянул в окно, словно оно должно было ему подсказать, что упустил в своей речи. – Я ж не дурак, всё понимаю, что к чему. А Софья всю домашнюю работу запустила, ворох вечно грязной посуды, в хлеву у коровы не чищено, даже скотину держит голодной, хорошо хоть мать помогает…
– Да мне-то что люди, тебе-то чего стыднова? – перебил Егор нервно. – Какая несусветная глупость, – возвысил он голос, краснея от внутренней ненависти на празднословивших о нем людей. – На каждый роток не накинешь платок! Завидуют, я так тебе скажу. Вот отседова и треп идёт, вот и мелят отседова, а ты чё же слухаешь? Я тебе это говорю уже не впервой, а у тебя скверная манера слушки подбирать…
– Что-что подбирать? – перебил Епифан, глядя осоловелыми глазами.
– Повторяю: привычка скверная слушки подбирать, братан, и подлая!
– Позволь, а что мне слухать, я ничего не подбираю? – возмутился не на шутку брат. – Ты лишнее не городи, не городи, Егорка! Моё дело лес стеречь, вот это я исполняю, а по-твоему, что же, о табе будут молоть чёрт знает что, а мне равнодушно внимать али прикажешь в ус посмеиваться? Эх, братан, от молвы не схоронишься, не убежишь, она всегда, как стервятник, над нами кружит!
– А мне некого опасаться, нешто я кого-то убил али украл шкуры и шью? – взъярился Егор, покраснев от шеи до висков, стукнул кулаком по столу, отчего задрожала, зазвенела посуда. – Или твой лес тяну?
Настя была с детьми в другой горнице, обе девочки, смеявшиеся там, после выкрика отца враз притихли.
– Егор? – заглянула в приоткрытые двери жена. Но муж сердито махнул рукой, мол, скройся, не до тебя тут, разговор такой, и она снова притворила двери.
– Он государственный, – между тем хмуро поправил Епифан.
– Ну государственный, дак и что из этого? А кто умеет, тот тянет и казну. Конечно, я тебя к воровству не призываю, сам не люблю бесчестных. Да и много от твоего леса пользы? – вопросил Егор, как будто до этого не слышал слов брата. Хотя в душе он признательно отметил желание Епифана не только печься о своём лесе, но и делал попытки всячески уберечь его подчас от злой людской молвы. Но ещё и потому, что брат таил на него ревнивую обиду из-за своей жены, бегавшей к нему шить тулупы чуть ли не вприпрыжку. Собственно, потому и бежала, что этот труд ей пришелся по сердцу. Он и платок ей привёз втайне и от брата, и от своей жены…
– А то мало, что ли? – обиделся Епифан.
– Знаю, лесу у нас много, – продолжал Егор, подбираясь к главному. – За границу его много уплывает, как и нашего хлебушка. Да, там его отрывают, лес-то, с руками, а нам только на строительство и надоть… А почему бы тебе избу или хоромину не отгрохать, ведь сам в лесу хозяин? – как бы давал совет, забыв свои недавние слова, касавшиеся хищений, и продолжал, выйдя к заветной мысли: – Ты вот, братан, послухай, чё я хочу от тебя, – и темно-серыми глазами прицельно уставился на брата. Его округлое красивое лицо не могло не нравиться бабам, потому Епифан про себя считал, что и Софья могла тайно быть влюблена в брата, и оттого он и злился. Рубаха у него на груди была вальяжно распахнута, оттуда форсисто лез обильный волосяной покров, и Епифан услышал: – Есть у меня золотая мыслишка. Как ты на это посмотришь, коли подамся я на жительство в город. Само собой, куплю дом, открою мастерскую, кхе-кхе, – от волнения Егор закашлял. – Ты тута будешь, значитца, овец разводить, ну а мне начнешь поставлять овчину. Кожи выделывать ты не будешь, это моя часть, сам справлюсь. Вот это дело, а что твой лес?! – воскликнув, закончил он.
Епифан раздумчиво, умно посмотрел на брата, при этом его длинная шея как-то вжалась в плечи, как у черепахи при опасности втягивается в панцирь голова. Потом, покачивая с недоверием головой, скептически изрек:
– И кто табе позволит так вольно распорядиться? Это же буржуйством попахивает?
– Чем попахивает? Буржуйством? Так у них были заводы, фабрики, это всем известно! А что ты узрел во мне буржуйское, я не знаю! – досадно и вместе с тем с возмущением вырвалось у Егора, у которого тут же возник отчаянный порыв доказать своё. – Ах, братан, как ты скор на расправу, не понял мою мыслю! По-твоему, я нэпман, что ли? Вот кто истинно бывшие буржуи, и то нонче им вон какая воля дадена, а я всего-навсего крестьянин, – он помолчал, прибавив: – А ежели на то пошло, они жили припеваючи и тогда и вот теперь жируют, а нам почему-то нельзя? Я так скажу: теперь пришёл наш черёд, нешто зря делалась революция, чтоб они снова жили, а мы им прислуживали?!
– Да это и так всё ясно, нэпы, говорят, пока на время. Вот погоди, уже слыхать – погонят их взашей. А революцию, знамо, делали, чтоб не было ни бедных, ни богатых.
– Тогда, по-твоему, кто жа должен быть? Ведь от веку были и те и другие? – возразил Егор.
– Ну были, а таперя не будет, всех уравняют!
– Смешно мне это слухать, как прямо в сказке… Я вижу саму жизнь и сказок не хочу. Так вот что хотел я сказать: нэповцы сами по себе, а я сам по себе. С них пример взять можно, а я не беру, я советскую власть дюже уважаю, своей признаю, не зря за нее воевать довелось! – напористо стоял на своём Егор и говорил быстро: – Никакого вреда я не принесу, ежели, завсегда буду ремеслом владеть. Какой в том вред, ты ответь мне? А-а, то-то, окромя пользы, ничего вредного не вижу!
– А вот погоди, как зачнут в колхозы народ агитировать, так дадут табе и мастерскую и всё прочее. Смотри, чтоб на Соловки али в Сибирь не умыкнули. Это табе большевики зараз сотворят, и не глянут, как ты воевал за советскую власть. Да ещё взыщут, ей-богу, почему раньше всех дома оказался…
– Так и что из того, надоело кровь людскую лить. А поступили ба так другие, как я, тогда ба её меньше напрасно пролилось ба… А я, учти, не кулак, не враг подавно, мой дорогой братан! Я верно рассуждаю, от имени самой жизни! Вреда я не чинил и не собираюсь, а ты меня, одначе, не знаешь. Я хочу жить свободно, кто мне это запретит? Советская власть? Но ведь она выражает наши кровные интересы!? Вот и я буду одевать народ от её имени, это вся и есть моя социалистическая резолюция.
Егор приосанился, расправил плечи и всем своим обликом говорил, что он полностью прав, и был твёрдо убежден: так должны понимать его и представители власти. Он быстро налил по второму стакану, пододвинул один брату, предлагая выпить. Когда выглушили опять по полному, долго молча закусывали, как бы переваривали всё услышанное друг от друга. Даже Настя выглянула в изумлении из горницы: мол, отчего стало так тихо?
Епифан и вправду обдумывал речь брата. В общем-то, слова он говорил правильные, однако же душа их не принимала. Не мог он их разделить, ибо заключали в себе нечто чуждое к нарождавшимся событиям к весне 1928 года…
– Скажи, братан, чем одевать станешь? – вновь заговорил Епифан, резанув надтреснутым голосом скопившуюся тишину в горнице. И Егор несколько в растерянности поднял на брата осоловелые глаза, без того острого блеска, с каким он ещё недавно доказывал ему свою позицию. – Хозяйство-то поди заберут в коммунию, то бишь в их колхоз?
– А что? Ты всё ещё веришь этим слухам? Лучше скажи, как можно у людей отобрать нажитое своим горбом? – яростно крикнул Егор, вытаращив свои тёмные глаза, сверкавшие снова в гневе после короткого затишья. – Помещики наживали богатство нашими горбами, есть разница?
– Обобществление зачнут проводить, а табе мерещится грабеж, – спокойно и взвешенно ответил Епифан, поводя устало плечами.
– Что-что? Это что за явление такое? – удивлённо протянул Егор. – А я вот не пойду в колхоз, туда силком на аркане не потянут? Я уже слыхал о добровольном начинании колхозов. Вот что мне и может померещиться, ежели начнут силу применять против всех тех, кто не желает надевать подневольное ярмо…
– Так то, что ты слышал, – забудь, братан! Вон у наших соседей-матюнинцев, —слыхал что делали с теми, кто в колхоз не захотев? Сопротивленцев записывали в кулачий элемент – и на выселение! Я бы, Егорка, не советовал ёжиком иголки выставлять. Все пойдут —и ты иди! Народ повалит, нешто ты отстанешь? Так тебя мигом к врагам причислят, это как пить дать!
– Да погоди, то ж они хотят експеримент с колхозом провести. А меня записать никак не могут, я им вовсе не враг! Работников никогда не содержал. Вот Степка Горчихин – тот завсегда был кулак, от веку на него батрачили, и рыло его само за себя говорит… А я своим горбом вкалываю, пальцы да ладони уже, почитай, стали как железные. Погляди! – и резко вытянул руку к брату. – Ты думаешь, их колхоз так и нужен всем? Не верю, все думают точно как я, а ты меньше бы паниковал. Лучше скажи, готов поддержать моё начинание? – он испытывающим взглядом колол брата.
– Должон знать: не поддержу! – и как-то потерянно отвернулся Епифан оттого, что не уважил Егору, и, не глядя на брата, продолжал: – Не серчай, Егорка, прямо говорю: боюсь! Может, и паникую – согласен, да и дело у меня егерское неплохое, люблю свою работу. А за отказ не серчай, время придёт – поймёшь сам, что круто заблуждался, – при этом он коротко с сочувствием глянул на брата.
Между тем Егор продолжал искренне верить в своё начатое дело и собирался его расширять, улучшать не с каким-то там вражеским умыслом, а с добрыми намерениями, для пользы народа. Как он мог не уважать советскую власть, которая дала людям, вечным беднякам, землю! Никогда они столько овец не содержали. И вот настаёт лучшее время, так что только успевай поворачиваться, налаживай общую новую жизнь!
Глава 8
Антип Бедин года на два-три был моложе братьев Мартуниных, с которыми в детстве и будучи постарше находился в периодической вражде. Он норовил подчинять своей воле ораву пацанов и приучал их ненавидеть богатых, которые угнетали простых людей. Егор и Епифан Мартунины не входили в его шкодившую когорту, после смерти отца они рано вступили во взрослую жизнь и честным трудом зарабатывали на жизнь. Казалось, Антип должен был за это их уважать, но сердце зудело: «Не хотят быть со мной заодно, – думал он с обидой, – деляг из себя строят, а сами такие же голодранцы, как и я».
Больше всех Антип невзлюбил самодовольного Егора. Но однажды Антип помирился с младшим Мартуниным, только потому, что Егор не ладил со Степаном Горчихиным, который в селе считался самым богатым. К тому же разводил породистых голубей, к которым Антип давно вожделенно присматривался, и ему очень хотелось хоть в этом разорить кулака-мироеда. И вот Антип подговорил Егора залезть на голубятню Степана. Они утащили несколько пар самых лучших и продали в другом селе. Антип полагал, что после этого Егор не отстанет от него, но тот откололся. Антип делал ещё попытки увлечь того на свою сторону, чтобы и дальше устраивать совместные вылазки ко всем тем, кто норовил жить с размахом. Но все попытки оказались безуспешными, ему так и не удалось подчинить Егора своему влиянию и тогда он ещё больше прежнего разозлился на него…
Когда грянула революция, Антипу шёл восемнадцатый год, потом он лихо воевал в гражданскую и за эти суровые годы напрочь возненавидел богатеев всех мастей…
Степан Горчихин, как и многие тогда, где-то долго пропадал, но вскоре после окончания гражданской вдруг объявился. Его родители, дожив до преклонных лет, померли. Он с ходу женился на дочери менее, чем он, зажиточного мужика Селифана Пряхина, сел на хозяйство, и с небывалым размахом начал его подымать из запустенья.
Антипа тогда поставили председателем волостного сельсовета, он долго присматривался к бывшему богатому подворью кулака, как год от года оно возрождалось и крепло. Правда, теперь на Степана никто не батрачил, он твёрдо усвоил законы советской власти. Но для Антипа он нисколько не утратил своей прежней сущности классового врага…
У Антипа была ещё жива старуха-мать, да в городе старшая замужняя сестра, и больше никого у него не было. За его многолетнее отсутствие двор запустел, оброс травой, хотя у них отродясь никогда хозяйства не водилось – одни куры да при дворе огород. Его отец был непробудным пьяницей, рано умер, мать часто болела. Антип рос как трава на лугу, по хозяйству совершенно ни к чему непригодный. Однако, женившись на девушке из дальней деревни, так как местные его упорно избегали, по просьбе жены Фёклы он завёл корову. Будучи партийным, стал работать в сельсовете председателем. И свою деятельность власть предержащего начал рьяно с того, что произвёл скрупулёзную опись имущества и скота на каждом подворье. Потом такие описи он наладился проводить чуть ли не ежегодно, а иные дворы, с крепкими заплотами, он держал на особой заметке. И по два раза на год захаживал проведать ретивых до богатства хозяев, к которым относился всем известный Степан Горчихин, которому Антип говорил, как бы того стращая:
– А к тебе, Степан Никифорович, я б каждый дёнь заглядывал, дюже твоё кулацкое хозяйство разбухает, как на дрожжах. А увижу работников, тогда гляди… увеличу налог в пять раз.
– Коли есть дорога – заходи, Антип Сергеевич! – посмеивался председателю нагло Степан и добавлял: – А что, посидим да поговорим за чаркой, разве не так баю? А у меня водочка, должен заметить, чистейшая – самогона не держу!
– Ты это того… не сули мне, а налог чтоб уплачен был точно в срок.
– От этого я никогда не уклонялся, ведь хорошо это знаешь, Антип Сергеевич!
И когда тот удалился, Степан думал про себя: «Чёрт голозадый, дал бы мне господь старое время, я бы из тебя веретено сделал»! К тому же давняя кража голубей была на совести Антипа, о чём Степан догадывался, ведь многие тогдашние зажиточные хозяева страдали от ночных налетчиков, но за руку их так и не поймали…
И сейчас Степану было за что злиться на Антипа: не проходило месяца, чтобы на его двор не прислал бумагу с повышением продналога больше прежнего на любой вид продуктов.
В особый список Антипом было внесено также и подворье Егора Мартунина, – собственно, председатель повышал налог всем тем, у кого прибавлялось хозяйство, поэтому эта чаша не миновала и Егора.
С тех самых пор как Антип Бедин повёл непримиримую борьбу в отношении зажиточных подворий, среди своих сельских людей он быстро заработал невыгодную для себя репутацию. Однако все к нему относились с боязливым уважением, а крепкие хозяева его свирепо ненавидели.
– Не имеешь права! – махали ему в спину, когда он сообщал о набавлении налога. – Это самоуправство, будем жаловаться в район! – и слали старательно бумаги районному начальству, а то и самому высокому. Но всякий раз их жалобы возвращались обратно в сельсовет с указанием тамошнему председателю разобраться на месте. Тогда Бедин вызывал отъявленных жалобщиков и, как он выражался, проводил политбеседу, показывая письменное распоряжение вышестоящих властей о создании списков кулаков, середняков и бедняков. После чего Антип, к своему удовлетворению, отмечал в глазах челобитчиков немой, застывавший страх. И таким отрезвляющим образом действовала на людей необходимая ему директива, что потом иные начинали перед ним лебезить…
Но прошло несколько лет, к его выходкам народ привык, что бесполезно было на него жаловаться, видно, в районе все такие. Ставят по себе извергов, чтобы было легче управляться. Вот и уезды заменили районами, волости упразднили, а что-то ещё придумают. На то она и новая власть, рассуждали старики.
Однако Егор был одним из тех, кто не жаловался на самоуправство своего бывшего детского неприятеля и не питал к нему лютую, непримиримую злобу. Даже и после того, как узнал, что Антип записал его в число зажиточников, непосредственно примыкавших к классу кулака, чтобы он непременно это хорошенько усвоил себе на будущее, коли не будет перед ним смирен и покладист. Но это только заставило Егора всерьёз задуматься, он затаил на Бедина обиду. А в свой черёд, Антип тоже с новой силой не взлюбил Егора лишь за одно то, что тот так рьяно вёл своё хозяйство. Таким образом, давнее к Егорy враждебное отношение отныне замешалось на классовой ненависти, и, конечно, не без зависти, особенно когда до него доходили слухи о ремесленнической хватке недруга, с чем в один прекрасный день к нему и пожаловал:
– Нy что, Егор, говорят, держишь мастерскую? – спросил Антип и жадно разглядывал его все надворные постройки, причём давно уже косясь недобро на дом, стоявший внушительно под железной кровлей.
– Да брешут люди, вот как заведу, так сам скажу! – ответил самодовольно Егор. – Нового у меня, Антип Сергеевич, ничего не завелось, – многозначительно улыбнулся, как бы поддразнивая наместника местной власти.
– Нету, говоришь, а жену в полушубок одел и сам ходишь почище кулака, может, и мне удружишь, тогда буду к тебе ласков? А то нашлю из финотдела инспектора, и пришлют денежный налог, понятно? Да и дом у тебя – целый дворец! Но это опосля поговорим, а пока на него особый налог присылать стану…
Это было ещё во время первых шагов Егора на поприще его скорняжного дела, и он ещё мог говорить с представителем власти посмелей.
– Дак что же моей жинке, зимой голой ходить? Завидовать, Антип Сергеевич, нехорошо и упрекать меня домом и стращать не надо. Нэповцам в городе можно всё, а мне нельзя попробовать? Ты же знаешь лучше меня, я и в подметки им не гожусь.
– В городе пусть как хотят делают, там свои власти, а в деревне истинно моя власть, и никаких мастерских, только поскотина, земля, ток, рига, вот что должно занимать крестьян!
Выслушивая отповедь, Егор наморщил лоб, нахмурился и отмахнулся, как от назойливой мухи, не желая выслушивать бред учредителя своих порядков. Вот точно так Антип верховодил в детстве над мальчишеской мелюзгой, устанавливая свои правила повиновения…
С какого-то времени (а уж с какого, теперь никому неизвестно) об Антипе Бедине по селу стали ходить порочившие его слухи, будто бы к нему домой по вечерам иногда захаживали Степан Горчихин и некоторые зажиточные мужики, что от них он получал мзду, после чего все они платили продналоги чуть ли не со всеми наравне, а то и вовсе как бедняцкие хозяйства. Никто не знал, насколько были достоверны эти слухи, но в их неопровержимую подлинность почему-то верилось с трудом. И вместе с тем никто не сомневался, что мужики знавали вечернюю дорогу к жиденькому подворью Антипа (в это можно было легко поверить), так как председатель сельсовета стал частенько выпивать. Хотя он закладывал еще и по другой причине, – жена Антипа Фёкла за четыре года совместной жизни еще ни разу не рожала. А удрученного от этого супруга брало горе, что он любил её, а она вот такая оказалась бесплодная. Впрочем, он мог вполне спутаться с другой бабой, если бы был уверен, что это не повлияло бы на его партийную карьеру вплоть до исключения, чего он боялся больше всего. Вот и оставалось лишь прикладываться к самогону, слабость к которому особенно обнаружилась, когда начали гурьбой подносить магарычи. Ведь как-никак ему тоже надо жить, но тихо, дабы не пошел гулять по деревне (и дальше) нежелательный звон…