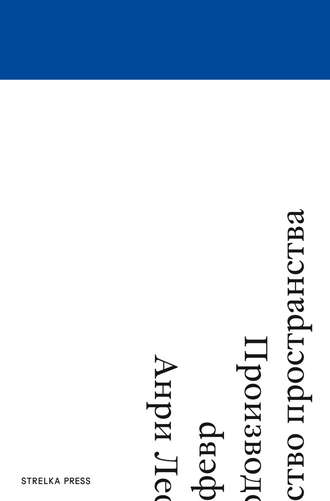
Полная версия
Производство пространства
I. Замысел этой книги
I. 1
Пространство! Еще несколько лет назад это слово означало всего лишь одно из геометрических понятий: пустое место. Любой образованный человек немедленно дополнял его каким-нибудь ученым термином, вроде «евклидово», или «изотропное», или «бесконечное». Принято было считать, что понятие пространства относится к математике, и только к ней. Социальное пространство? Подобное словосочетание вызвало бы недоумение.
Все знали, что понятие пространства веками разрабатывалось в философии; но из истории философии также явствовало, что науки, в особенности математика, постепенно отделялись от своего общего корня: старинной метафизики. Учение Декарта считалось решающим этапом в выработке понятия пространства и его обособлении. По мнению большинства историков западной мысли, Декарт положил конец аристотелевской традиции, в рамках которой пространство и время принадлежат к числу категорий: иначе говоря, пространство и время позволяют именовать и классифицировать факты чувственного мира, однако их собственный статус остается неопределенным – в том смысле, что их можно считать либо просто эмпирическими способами группировать чувственные факты, либо важнейшими обобщениями, стоящими выше, чем воспринимаемое чувствами. Картезианский разум поднимает пространство до уровня абсолютного. Объект, предшествующий Субъекту, res extensa, предшествующее res cogitans и явленное ему, господствует над чувствами и телами, ибо вбирает их в себя. Атрибут Бога? Порядок, имманентный всему сущему? Так после Декарта ставился вопрос о пространстве для философов – Спинозы, Лейбница, последователей Ньютона. До тех пор, пока Кант, вновь обратившись к понятию «категория», не переосмыслил его. Пространство (наряду со временем) – относительное, орудие познания, классификация феноменов, – тем не менее оторвано от эмпирики; по Канту, для сознания (для «субъекта») оно сближается с априори сознания (субъекта), с его внутренней структурой – идеальной, а значит, трансцендентальной, а значит, непознаваемой в себе.
Все эти долгие споры ознаменовали собой переход от философии пространства к науке о пространстве. Устарели ли они? Нет. Они важны не только как моменты или этапы в развитии западного Логоса. Были ли они чисто абстрактными, как предписывает угасающий Логос так называемой «чистой» философии? Нет. Они были связаны с точными и конкретными вопросами, в том числе с вопросами симметрии и асимметрии, симметричных объектов, объективных эффектов отражения и зеркальности. Эти вопросы вновь встанут перед нами в данной работе и повлияют на анализ социального пространства.
I. 2
Тогда явились математики в современном смысле, носители науки (и научности), не связанной с философией, полагающей себя необходимой и достаточной. Математики присвоили себе пространство (и время); они превратили его в свое владение, но парадоксальным образом: придумали разные пространства, неопределенное множество пространств – неевклидовы пространства, искривленные пространства, пространства с х измерений и даже с бесконечным числом измерений, конфигуративные пространства, абстрактные пространства, пространства, определяемые какой-либо деформацией, трансформацией, топологией и т. д. Математический язык, предельно общий и узкоспециальный, четко выявляет и классифицирует все эти бесчисленные пространства (чья совокупность, или пространство пространств, осмысляется, похоже, не без затруднений). Связь между математикой и реальностью (физической, социальной) была отнюдь не самоочевидной, между ними разверзлась пропасть. Математики, создававшие подобную «проблематику», оставляли ее на рассмотрение философам, которые тем самым получали возможность поправить свое пошатнувшееся положение. Вследствие этого пространство стало (вернее, вновь стало) тем, что в одной из философских традиций, платонизме, противопоставлялось учению о категориях: «умственной вещью» (cosa mentale) Леонардо да Винчи. Множащиеся математические теории (топологии) усугубляли старинную проблему, так называемую проблему «познания». Как перейти от математических пространств, то есть от умственных способностей рода человеческого, от логики, – сначала к природе, а от нее к практике и к теории общественной жизни, которая также протекает в пространстве?
I. 3
От этого наследия (философии пространства, исправленной и дополненной математикой) современная наука, эпистемология, получила и приняла определенный статус пространства – как «умственной вещи» или «умственного локуса». Тем более что теория множеств, притязающая на роль логики этого локуса, заворожила не только философов, но и писателей и лингвистов. Со всех сторон по примерно одинаковому сценарию стали возникать различные «множества» (иногда практические[3] или исторические[4]) и сопутствующие им «логики»; причем эти множества и «логики» не имеют больше ничего общего с картезианской теорией.
С тех пор концепт умственного пространства, дурно эксплицированный, совмещающий в себе у разных авторов логическую когерентность, практическую связность, саморегулирование и отношения частей и целого, порождение подобного подобным в совокупности локусов, логику содержащего и содержимого, – концепт этот становится все более общим, его не удерживают никакие рамки. Постоянно слышится речь о пространстве того и/или пространстве сего: литературном пространстве[5], идеологических пространствах, пространстве сна, топике психоанализа и пр. Причем в этих так называемых фундаментальных, или эпистемологических, исследованиях «отсутствует» не только «человек», но и пространство, о котором тем не менее говорится на каждой странице[6]. «Знание – это пространство, в котором субъект может занять позицию и говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своем дискурсе», – спокойно заявляет М. Фуко в «Археологии знания»[7], не задаваясь вопросом, о каком пространстве он говорит и каким образом перескакивает от теоретического (эпистемологического) к практическому, от ментального к социальному, от пространства философов к пространству, где люди имеют дело с вещами. Научность (определяемая через пресловутую «эпистемологическую» рефлексию о полученном знании) и пространственность соединяются «структурно», по заранее предусмотренной схеме, которая очевидна для научного дискурса и никогда не переносится на понятие. Научный дискурс, не боясь двигаться по замкнутому кругу, противопоставляет статус пространства и статус «субъекта», мыслящее «я» и мыслимый объект, возвращаясь тем самым на позиции картезианского (западного) Логоса, который некоторые другие мыслители считают уже «закрытым»[8]. Эпистемологическая мысль, сопрягаясь с усилиями лингвистов-теоретиков, пришла к занятному результату. Она уничтожила «коллективного субъекта», народ как генератор того или иного языка, как носителя тех или иных этимологических последовательностей. Она изъяла конкретного субъекта, субститута Бога, давшего вещам имена. Она выдвинула на первый план неопределенное и безличное on, которое порождает язык вообще, язык как систему. Но субъект все-таки нужен – и тогда вновь возникает субъект абстрактный, философское Cogito. Отсюда новая актуализация (в модальности «нео») старой философии – неогегельянство, неокантианство, неокартезианство, включая Гуссерля, который без особых сомнений постулирует (почти тавтологическое) тождество познающего Субъекта и познаваемой Сущности, неотделимой от «потока» (переживаний), и, как следствие, почти «чистое» тождество формального знания и знания практического[9]. Неудивительно поэтому, что великий лингвист Н. Хомский восстанавливает декартово Cogito (субъекта)[10], утверждая, что существует такой лингвистический уровень, на котором невозможно представить каждую фразу как простую конечную последовательность элементов определенного типа, порожденную простым механизмом «слева направо», и что следует выявить конечное множество уровней, упорядоченных «сверху вниз»[11]. Н. Хомский ничтоже сумняшеся постулирует наличие ментального пространства, обладающего определенными свойствами: направлениями и симметричностью. Он позволяет себе перейти от этого ментального пространства языка к пространству социальному, где язык становится практикой, и даже не задумывается над тем, какую пропасть преодолевает. То же самое у Ж. М. Рея: «Смысл задается как законное право замещать означаемые в одной и той же горизонтальной цепи, в пространстве упорядоченной, заранее рассчитанной когерентности»[12]. Эти авторы, а с ними и множество других, ратующих за образцовую формальную строгость, совершают с логико-математической точки зрения образцовую ошибку – паралогизм: перескок через целую область, в обход последовательности, перескок, неявно узаконенный понятием «разлом» или «разрыв», используемым при каждом удобном случае. Они обрывают последовательность рассуждения, прикрываясь прерывностью, которая в их методологии должна быть под запретом. Тем самым создается пустота, зияние, размеры которого неодинаковы у разных авторов и в разных специальностях; этот упрек относится и к Ю. Кристевой с ее «семиотикой», и к Ж. Деррида с его «грамматологией», и к Р. Барту с его общей семиологией[13]. Последователи этой школы, которая (отчасти в силу своего успеха) все сильнее склоняется к догматизму, широко используют следующий теоретический софизм: пространство философско-эпистемологического происхождения фетишизируется, а социальное и материальное поглощаются ментальным. Некоторые из этих авторов все же подозревают о существовании или необходимости опосредования[14], но большинство без лишних церемоний перескакивают от ментального к социальному.
Одно из сильных идеологических течений, весьма гордое собственной научностью, восхитительно бессознательным образом выражает господствующие – то есть принадлежащие господствующему классу – представления (быть может, скругляя их или искажая). Определенная «теоретическая практика» порождает ментальное пространство, якобы внеположное идеологии. Неизбежная логическая цепь или кольцо приводит к тому, что это ментальное пространство, в свою очередь, становится местом «теоретической практики», отличной от практики социальной и утверждаемой в качестве оси, стержня или центра Знания[15]. Двойное преимущество для существующей «культуры»: она выглядит не противницей и даже покровительницей правдивости, а в этом «ментальном пространстве» происходит множество мелких событий, которые можно либо обратить на пользу, либо использовать в полемике. О том, что это ментальное пространство удивительным образом похоже на то, где в тиши кабинетов орудуют технократы, мы еще будем говорить ниже[16]. Что же до Знания в подобном, основанном на эпистемологии определении, более или менее тонко отграниченного от идеологии или от развивающейся науки, то разве не восходит оно прямиком к гегелевскому Концепту, жениху Субъективности, наследницы великого картезианского рода?
Предполагаемое квазилогическое тождество ментального пространства у математиков и философов-эпистемологов разверзает пропасть между тремя понятиями: ментальное, материальное, социальное. Несколько канатоходцев преодолевают эту бездну под взорами восхищенных и сладко содрогающихся зрителей, но так называемая философская мысль, то есть мысль философов по профессии, как правило, даже не пытается проделать подобное «сальто-мортале». Видят ли они еще провал? Они отводят глаза. Профессиональная философия отказывается от современной проблематики знания и от «теории познания», ограничиваясь знанием абсолютным, или притязающим на абсолютное, то есть знанием истории философии и наук. Подобное знание якобы отделено и от идеологии, и от не-знания, то есть от «переживания». Это отделение невозможно осуществить, зато оно имеет то преимущество, что не мешает банальному «консенсусу», к которому многие подспудно стремятся: кто же откажется от Истины? Когда заводят речи об истине, иллюзии, неправде, видимости и реальности, каждый понимает, или считает, что понимает, чем тут пахнет.
I. 4
Эпистемологически-философская рефлексия не задала вектора развития для науки, уже давно ищущей себя в огромном количестве публикаций и трудов: науки о пространстве. Соответствующие исследования либо ограничиваются чистым описанием (не поднимаясь до аналитики, а тем более до теоретизирования), либо приводят к фрагментации и расчленению пространства. Но есть достаточно оснований полагать, что описания и фрагментации дают лишь перечни того, что находится в пространстве, самое большее – некий дискурс о пространстве, но никогда не знание самого пространства. За неимением знания пространства в дискурс и в язык как таковой, то есть в ментальное пространство, переносится большинство функций и «свойств» пространства социального.
Семиология ставит некоторые щекотливые вопросы – именно постольку, поскольку этот незавершенный способ познания распространяется вширь, не ведая своих границ, и ему следует эти границы поставить, хоть это и сложно. Когда к пространствам (например, городским) применяют коды, разработанные на основании литературных текстов, такое применение остается описательным; это нетрудно показать. Попытки же выстроить тем самым некую кодировку – процедуру расшифровки социального пространства – несут в себе риск свести это пространство к сообщению, а посещение его – к прочтению. А значит, отказаться от истории и от практики. Однако не было ли в прошлом, в XVI (Ренессанс и ренессансный город) – XIX веках, некоего единого архитектурного, урбанистического, политического кода, общего языка для жителей городов и деревень, для властей и для художников, языка, позволявшего не только «прочитывать» пространство, но и производить его? А если такой код существовал, то как он был порожден? Где, как, почему он исчез? На эти вопросы еще предстоит дать ответ.
Что же касается расчленения и фрагментации, они доходят до бесконечности – неопределенной и не поддающейся определению. Тем более что фрагментация считается научным приемом («теоретической практикой»), позволяющим упростить хаотические потоки явлений и выявить их «составные элементы». Отвлечемся пока от применения математических топологий. Послушаем, как эксперты рассуждают о пространстве живописи, о пространстве Пикассо, о пространстве «Девушек из Авиньона» и «Герники». Другие эксперты говорят об архитектурном пространстве, или пространстве скульптуры, или пространстве литературы – совершенно так же, как о «мире» того или иного писателя, того или иного творца. Из специальных научных трудов читатели узнают о разного рода специализированных пространствах: пространствах досуга, рабочих, игровых, транспортных, пространствах социальной инфраструктуры и т. п. Некоторые ничтоже сумняшеся говорят о «больном пространстве» или «болезни пространства», о безумном пространстве или пространстве безумия. Получается бесконечное множество пространств, наслоенных одни на другие (или вложенных друг в друга), – географических, экономических, демографических, социологических, экологических, политических, коммерческих, национальных, континентальных, мировых. Не забудем и о пространстве природы (физическом), пространствах потоковых (энергии) и пр.
Прежде чем подробно и точно опровергнуть ту или иную из подобных процедур, проводимых под соусом «научности», сделаем одно предварительное замечание: эта бесконечная множественность описаний и фрагментаций наводит на подозрения. Не идут ли они в русле весьма сильной, возможно, доминирующей тенденции в существующем обществе (способе производства)? При этом способе производства труд познания, как и труд физический, бесконечно дробится. Более того, пространственная практика заключается в проецировании «на местность» по отдельности всех аспектов, элементов и моментов практики социальной, причем происходит это под неослабным тотальным контролем, то есть при подчинении всего общества практике политической, власти государства. Как мы увидим, подобный праксис предполагает и усугубляет многие противоречия; о них еще пойдет речь в этой книге. Если этот анализ подтвердится, то искомая «наука о пространстве»:
а) полностью соответствует политическому («неокапиталистическому», если речь идет о Западе) применению знания, которое, как известно, все более и более «непосредственно» интегрируется в производительные силы и «опосредованно» – в общественные производственные отношения;
b) предполагает идеологию, маскирующую это применение, а также конфликты, неотделимые от в высшей степени корыстного использования в принципе бескорыстного знания; идеологию, не называющую себя таковой, а для тех, кто принимает эту практику, сливающуюся со знанием;
с) содержит в лучшем случае технологическую утопию, имитацию или программирование будущего (возможного) в рамках реальности, то есть существующего способа производства. Она оперирует, основываясь на знании, интегрированном и интегрирующем в данный способ производства. Подобную технологическую утопию, которой изобилуют все научно-фантастические романы, можно обнаружить в любых проектах, относящихся к пространству, – архитектурных, урбанистических, связанных с планировкой.
Все эти положения будут далее эксплицированы, подкреплены аргументами и доказательствами. Если они подтвердятся, то в первую очередь потому, что существует истина пространства (за анализом следует изложение, несущее эту глобальную истину), а не создание или построение некоего истинного пространства – либо общего, как полагают эпистемологи и философы, либо частного, как считают представители той или иной научной дисциплины, связанной с пространством. Во вторую очередь, это означает, что следует перевернуть, направить в обратную сторону господствующую тенденцию: тенденцию, ведущую к фрагментации, разделению, дроблению, подчиненным единому центру или центральной власти; тенденцию, реализуемую знанием и во имя знания. Совершить такой переворот нелегко; недостаточно просто заменить «точечные» исследования глобальными. Можно предположить, что он потребует значительных усилий. Для того чтобы совершить этот переворот, нужна мощная мотивация, его придется направлять по ходу самого его свершения, этап за этапом.
I. 5
Мало кто сегодня возьмется отрицать «влияние» капиталов и капитализма в практических вопросах, касающихся пространства, – от строительства жилых зданий до распределения инвестиций и разделения труда на всей планете. Но что сегодня понимают под «капитализмом» и «влиянием»? Одни представляют себе «деньги» с их способностью к воздействию или же торговый обмен, товар в самом общем виде, поскольку «все» продается и покупается. Другие более отчетливо представляют себе действующих лиц драмы: национальные и многонациональные «общества», банки, девелоперов, власти. Каждый агент, способный участвовать в процессе, обладает своим «влиянием». Тем самым за скобки выносятся одновременно и единство капитализма, и его разнообразие, а значит, противоречия. Его превращают либо просто в сумму отдельных видов деятельности, либо в сложившуюся замкнутую систему, когерентную, потому что она выдерживает испытание временем, и только поэтому. Однако капитализм слагается из многих элементов. Недвижимость, торговый капитал, финансовый капитал, каждый со своими более или менее широкими (в зависимости от эпохи) возможностями, вмешиваются в практику; их вмешательство не обходится без конфликтов между капиталистами одного или разных видов. Разного рода капиталы (и капиталисты) вместе с различными пересекающимися рынками – рынком товаров, рынком рабочей силы, рынком знаний, рынком самих капиталов, рынком земель – образуют капитализм как таковой.
Некоторые легко забывают, что у капитализма есть и иной аспект, безусловно связанный с функционированием денег, различных рынков, общественных производственных отношений, но отдельный от них, ибо главенствующий: гегемония одного класса. Понятие гегемонии, введенное Грамши, предсказывавшим роль рабочего класса в построении нового общества, до сих пор позволяет анализировать деятельность буржуазии – в частности, ту, что касается пространства. Понятие гегемонии уточняет и утончает несколько грубый и тяжеловесный концепт «диктатуры» пролетариата, которая должна последовать за диктатурой буржуазии. Оно обозначает нечто гораздо большее, чем влияние и даже чем постоянное использование репрессий и насилия. Гегемония осуществляется в отношении всего общества, включая культуру и науку, чаще всего через посредников – политиков и политических партий, но также и многих интеллектуалов и ученых. То есть она осуществляется в отношении институций и репрезентаций. Сегодня господствующий класс поддерживает свою гегемонию всеми средствами, в том числе и с помощью знания. Связь между знанием и властью становится очевидной, что никоим образом не означает запрета на критическое, подрывное знание и, напротив, обусловливает различие и конфликт между знанием на службе власти и знанием, власти не признающим[17].
Как эта гегемония может обойти стороной пространство? Разве оно не просто пассивное средоточие социальных отношений, среда их овеществленного воссоединения или сумма приемов их возобновления и продления? Нет. Ниже мы покажем, что пространство, знание и действие играют активную (оперативную, прикладную) роль внутри существующего способа производства. Мы покажем, что пространство работает, что гегемония осуществляется посредством пространства, выстраивая с помощью подспудной логики, с помощью знания и техники, определенную «систему». Порождая строго определенное пространство, пространство капитализма (мировой рынок), очищенное от противоречий? Нет. Если бы дело обстояло так, «система» могла бы на законных основаниях притязать на бессмертие. Некоторые догматичные умы колеблются между проклятиями в адрес капитализма, буржуазии, их репрессивных институтов и безудержным восхищением, неодолимым влечением к ним. Они привносят в это незамкнутое целое (настолько незамкнутое, что ему приходится прибегать к насилию) недостающую ему связность, превращая общество в «объект» систематизации, которую изо всех сил стараются завершить и закрыть. Если бы это было правдой, она не устояла бы. Откуда тогда брать слова, понятия, позволяющие дать определение системе? Все они будут лишь орудиями самой системы.
I. 6
Теорию, ищущую и не находящую себя самое из-за отсутствия критического момента, а потому снова и снова возвращающуюся к дробному знанию, – теорию эту можно назвать, по аналогии, «унитарной теорией». Задача в том, чтобы выявить или создать теоретическое единство между «полями», рассматриваемыми по отдельности, подобно молекулярным, электромагнитным, гравитационным силам в физике. О каких полях идет речь? Прежде всего о физическом – природе, космосе; затем о ментальном (включая логику и формальную абстракцию); и, наконец, о социальном. Иначе говоря, предметом исследования выступает логико-эпистемологическое пространство, пространство социальной практики, занятое чувственными явлениями, в число которых входят и воображаемое, проекты и проекции, символы, утопии.
Требование единства можно сформулировать иначе, более четко. Рефлективная мысль либо смешивает, либо разделяет «уровни», распознаваемые социальной практикой, и тем самым ставит вопрос об их взаимосвязях. Жилье, жилые здания, «жилищная среда» относятся к архитектуре. Город, городское пространство относятся к особой научной дисциплине – урбанистике. Более широкое пространство, территория (региональная, национальная, континентальная, всемирная), находится в ведении других специалистов: планировщиков, экономистов. Таким образом, все эти «специальности» либо входят, проникают одна в другую под строгим надзором главного действующего лица – политики, либо выпадают одна из другой, лишаясь всяких общих целей и всякой теоретической общности.
Унитарная теория призвана покончить с этой ситуацией, критический анализ которой не исчерпывается изложенными выше соображениями.
Познание материальной природы позволяет определить понятия на наивысшем уровне обобщения и научной абстракции (имеющей содержание). Даже связи между этими понятиями и соответствующими им материальными реалиями еще не определены, мы знаем, что связи эти существуют и что предполагаемые ими концепты и теории – энергия, пространство, время – не могут ни смешаться между собой, ни отделиться друг от друга. Все то, что в повседневном языке именуется «материей», или «природой», или «физической реальностью» – то, в чем при первичном анализе выделяются и даже разграничиваются отдельные моменты, – вновь обрело безусловное единство. «Субстанция» этого космоса (или «мира»), к которому принадлежат и земля, и род человеческий с его сознанием, «субстанция» эта – если вспомнить старинную философскую лексику – обладает свойствами, которые описываются тремя словами. Если мы говорим «энергия», то должны сразу же добавить, что эта энергия действует в некоем пространстве. Если мы говорим «пространство», то должны сразу сказать, что именно его наполняет и каким образом: обозначить действие энергии в некоторых «точках» и во времени. Если мы говорим «время», то должны сразу продолжить, указав, что именно умирает или изменяется. Пространство, взятое по отдельности, превращается в пустую абстракцию; то же самое относится и к энергии, и ко времени. Эту «субстанцию», с одной стороны, трудно помыслить, а тем более представить себе на космическом уровне, однако, с другой стороны, можно сказать, что ее очевидность бросается в глаза: и чувства, и мысль улавливают только ее.



