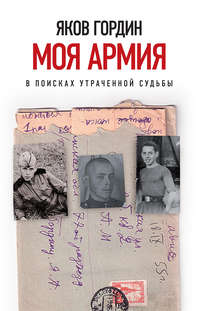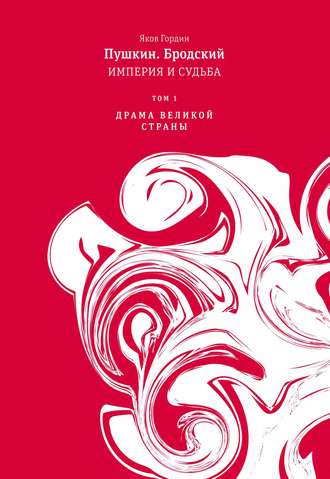
Полная версия
Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны

Яков Гордин
Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 1. Драма великой страны
© Яков Гордин, 2016
© «Время», 2016
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» 2014–2018
Самуил Лурье. Опыт понимания умом
Жанр: философская эссеистика. То есть такая проза, в которой идеи живут как самостоятельные сущности, как действующие лица, наравне с людьми (впрочем, те, как правило, гибнут – за идеи либо из-за).
Область исследуемых фактов: политическая история России.
Тема: неудачи умных и храбрых. И вообще – почему почти никогда ничего не получалось, а если получалось, то страшной ценой, с огромным опозданием, ненадолго и не то.
Главный герой: призрак свободы.
Определение свободы: формально – не дано. И насколько я понимаю, книги этого автора нарочно так устроены: вот, дескать, вам, дорогой читатель, подходящий повод хорошенько подумать, прикинуть, взвесить – точно ли она вам нужна, эта прекрасная вещь – свобода? насколько нужна? для чего? что вы стали бы с нею делать, если бы вдруг (чего, вообще-то, не бывает) досталась даром? а как насчет, в случае чего, заплатить: чем вы готовы были бы рискнуть?
Разобраться, зачем она мне, – наилучший способ способ понять: что она такое. И – как мне жить, чтобы она наступила хоть когда-нибудь.
Педагогический такой прием, методический такой: а давайте попробуем, просто для разнообразия, думать отчетливо.
Автор ведь – интеллигент и сын и внук интеллигентов и принадлежал к данной, так сказать, прослойке, пока она не перестала существовать. (И – даже впоследствии, когда она – совсем уже ненадолго – превратилась было в передовую общественность.) И ничто не раздражало его сильней, чем присущая этой славной среде весьма начитанных личностей политическая невинность.
В свое время и в сочетании с политической немотой эта черта не выглядела такой уж отвратительной. Не говоря уже – спасала жизнь.
А вот когда вдруг объявили: слово предоставляется; скажите всё, о чем так долго молчали, – не бойтесь, не тронем, – какая открылась идейная нищета! какая бессвязность понятий; истерическое легкомыслие – это бы куда ни шло, – но и какая самоуверенная болтливость! Миллионы ничем не обеспеченных фраз. Девальвация. Банкротство.
Положим, мы не виноваты. Политическая теория уплыла из России на двух пароходах еще в 1922 году.
Лично я, например, до самой перестройки ни разу в жизни не слышал словосочетания «разделение властей».
Про ту же свободу в книгах попадались почему-то исключительно нелепости. Типа что она откуда-то приходит, почему-то нагая, бросая на сердце цветы.
Удивительно ли, что, имея дело с такими читателями, автор вынужден немножко принуждать их к дисциплине ума. Чтобы сами по ходу изложения сообразили: неужто свобода – дура; с какой это радости стала бы она разгуливать в подобном виде?
И вообще – так не бывает, чтобы она взяла и пришла. Как, допустим, время года. Или как в гости.
А как бывает? О чем и речь. Про что и книга.
Автор: именно тот человек, которому есть что сказать.
Вот уж кто не нуждается ни в чьих дифирамбах. Известен, уважаем и любим. Практически – классик. Полка написанных им книг стоит любого университетского курса. (А уж с моим Ленинградским ордена Ленина ЛГУ имени Жданова и не сравнить.)
Есть среди них такие, что просто обидно было бы не прочитать, – мои, по крайней мере, представления об очень важных сюжетах были бы гораздо бедней и темней.
Без большой книги Якова Гордина о 14 декабря – с названием обдуманным, а таким не заманчивым: «Мятеж реформаторов». (Нанял бы он, что ли, кого-нибудь – придумывать заглавия; хотя, несомненно, умеет и сам не хуже никого, вспомнить хотя бы: «Вашу голову, император!» – была у него такая пьеса; но, видать, слишком дорожит точностью; небось думает – точность бесценна.) До Гордина это было просто собрание схем – многие подтвердят, я почти не шучу: вот неправильный прямоугольник – Сенатская площадь, заштрихованный кружок пониже центра – Медный всадник, цифрами обозначены воинские части, красным пунктиром – положение искренних выразителей, черным – типичных представителей. Вообразите, если хотите, четыре пушечных залпа, – и это всё.
Гордин что-то такое сделал с фактами (или они что-то сделали с ним: собравшись в огромном количестве, привиделись ему подряд и превратились как бы в воспоминание, как если бы он сам участвовал в заговоре и приходил на площадь, но сумел скрыться), – эти самые факты без малейшей перемены выстроились по смыслу и сами себя рассказали голосами тогдашних людей, на глазах превращаясь в их судьбы.
Скажем прямо: Гордин этих несчастных – декабристов – спас. (И между прочим – хотя это очень существенно – не отрекся от них потом, в пресловутые наши дни.) А как еще это назвать: был столбец фамилий (с датами в скобках) – стали опять лица, характеры, мнения. Реальные люди. Пореальней – да и посимпатичней – многих нынешних.
Правда, я подозреваю, что в книге Гордина они немножко умней, чем были тогда, в 1825-м. Он склонен выводить актеров – идеологами. Вообще почти всегда недооценивает роль глупости, случайности и страстей.
Люди у него живут, как мыслят.
Но будь иначе – кто, кроме сугубых специалистов, стал бы читать его в полном смысле ученый труд про какого-то там князя Дмитрия Голицына. Восемнадцатый век, первая треть – ну кому какое дело, о чем препирались на своем чудовищном воляпюке эти страшные и забавные существа в пудреных париках.
Кто бы поверил, что интеллектуальный уровень дискуссии был повыше, чем на знаменитом Первом съезде народных депутатов СССР, а повестка дня – почти та же самая.
Это очень, очень серьезная вещь – «Меж рабством и свободой». Политический триллер – и политический же катехизис. Тоже и без нее не обойтись.
Ну а в «Право на поединок» возвращаешься, как все равно домой: сплошь знакомые имена. Как будто к вам в руки попал мемуар самого осведомленного из современников Пушкина. Только с так называемым воздухом времени произведен странный и трудный опыт, наподобие физического: воздух удален, перед нами историческое время в чистом виде – вещество, состоящее из человеческих мыслей, в значительной степени – из надежды на другое, на лучшее время, на будущее, а без нее настоящее сворачивается, тускнеет и гаснет, и даже Пушкину не хочется жить.
Про «Крестный путь победителей» скажу только вот что: это превосходный роман. И по-моему, его герой необыкновенно похож на автора.
Казалось бы – что общего? Якова Гордина так и видишь в академической шапочке и в мантии – оксфордской, скажем. Так и слышишь приветственные речи, в которых обязательно его наименуют: последний русский историософ.
И это будет сущая правда. Он добывает из истории – смысл.
Но – не отделяя (может быть, и не отличая) этот смысл от смысла собственной жизни. По роду занятий просветитель, по призванию он – деятель. Не теоретик, а стратег. Хотя полагает главной задачей текущего момента – анализ тактики.
Он написал не четыре книги, а двадцать четыре или даже больше. В этой – будем считать ее двадцать пятой – сходятся основные мотивы всех остальных.
Можно читать ее как конспект исторической концепции. А можно – как политическую программу приличных людей.
Для меня интересней всего было следить за роковой схваткой грамматических наклонений: вроде бы вот-вот сослагательное – несравненно более предпочтительное – прорвется в реальность; но не тут-то было: бессмысленное изъявительное непременно применит какую-нибудь бесчестную уловку и опять сделает его тем, чему не бывать.
Полвека назад в 31-й аудитории филфака был студенческий диспут. Яков Гордин сказал блестящую речь. Я тогда услышал его впервые. Восхитился. Текстом, интонацией, осанкой, повадкой. Он сразу показался мне таким, каким и оказался по ходу дальнейшей жизни: умным, смелым и – тогда еще было это смешное слово – принципиальным.
Так и восхищаюсь с тех пор; привык, знаете ли, за столько лет.
Часть первая. Гибель Пушкина, или Предощущение катастрофы
По общему своему характеру, политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся однако с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного правопорядка и независимости личности, – т. е. в этом смысле проникнутый либерализмом.
С. Франк. Пушкин как политический мыслительЧто же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много.
Пушкин – великому князю Михаилу ПавловичуГод 1831-й
Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы.
Пушкин – Вяземскому. 1831Смутное сознание подсказывает мне, что скоро придет человек, который принесет нам истину нашего времени.
Чаадаев – Пушкину. 18311В полдень 25 мая 1831 года Александр Сергеевич Пушкин с супругой въезжали в Царское Село. Петербуржец того времени писал о поездке в императорскую резиденцию:
«По каким прекрасным чугунным мостикам мы теперь едем; дорога как скатерть. Перед нами въезд в Царское Село. Вот множество низеньких домиков в китайском вкусе, один другого милее, и сколько тут мандаринов, змей, драконов из жести… Это Китайская деревня. Направо лежит сад, обширный, величественный, отделенный от дороги широким каналом. Глазам нашим представляется императорский дворец во всем его величии и красоте; это истинно царские чертоги: едешь и ощущаешь какое-то особенное, возвышающее чувство…»
Сидя в коляске рядом с Натальей Николаевной, Пушкин тоже видел все это перед собой. Он тоже испытывал какое-то особенное, возвышающее чувство. Но не от близости императорского дворца.
Он уехал отсюда четырнадцать лет назад. Уехал вольнодумцем, мальчишкой, мечтающим надеть гусарский доломан, готовым каждый день выходить на дуэли, готовым к жестокой войне литературной, готовым безрассудно проповедовать вольность.
Это было время ожиданий и надежд.
И теперь – через четырнадцать лет – он возвращался обратно. Он снова был полон надежд и ожиданий. Но надежды были иные, и ожидания – иные. А главное – иное было время.
2Время было апокалипсическое.
Чаадаев писал ему: «Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир?»
26 июля 1830 года король Франции Карл X, возмущенный оппозицией Палаты депутатов и большей части прессы, издал шесть антиконституционных ордонансов: «Свобода периодической печати отменяется», «Палата депутатов от департаментов распущена…»
Оппозиционная пресса отреагировала мгновенно и безошибочно. 27 июля в двух газетах появился протест против ордонансов. Третья, наиболее влиятельная газета оппозиции «Глоб» перепечатала текст ордонансов. Редакционная статья, сопровождающая их, начиналась словами: «Преступление исчерпано».
Это был последний выпуск газет при старом порядке. Типографии прекратили работу. Многочисленные рабочие-полиграфисты вышли на улицы. Парижские предприниматели закрыли свои предприятия, обеспечив восстание живой силой.
В тот же день – 27 июля – в Париже начались уличные бои. Среди рабочих было много наполеоновских ветеранов. Драться они умели. Карбонарии занялись организацией боевых отрядов. Общее руководство восстанием взяли на себя студенты Политехнической школы. Регулярные войска перешли в большинстве своем на сторону народа. На третий день единственная опора короля – швейцарская гвардия – была вытеснена из Парижа. Своим главнокомандующим восставшие провозгласили знаменитого генерала Лафайета, героя американской Войны за независимость и Великой революции 1789 года.
Король объявил ордонансы недействительными. Однако было ясно, что к власти ему не вернуться.
После нескольких дней политической борьбы победили сторонники герцога Орлеанского. На французский трон была возведена Орлеанская династия. Новый король поклялся в верности конституционной Хартии (вскоре он начнет нарушать свои клятвы). 12 августа официозная газета писала:
«Сегодня утром король вышел пешком с зонтиком в руке. Он был узнан и окружен толпой; теснимый рукопожатиями и приветствиями, он принужден был вернуться при единодушных криках: “Да здравствует король Филипп”».
25 августа началась революция в Бельгии.
С первых дней французской революции Пушкин напряженно следил за событиями.
Действия короля Карла X, нарушившего законы страны, он осудил решительно. Он считал, что Полиньяка, министра, толкнувшего короля на такой шаг, надо казнить. Конституция не должна нарушаться. Но результаты революции, новый король и поведение публики не вызвали у него восторга.
«Их король с зонтиком под мышкой слишком буржуазен», – писал он. Фраза эта, как мы убедимся, имела для него смысл более глубокий, чем может показаться.
Главным же для него было, что Европа пришла в движение, как в 1789 году. Началось то, что он назвал «судорогами, охватившими Европу». Почва заколебалась.
3Пушкины поселились в домике царского камердинера Китаева. Сам Китаев умер, и вдова домик сдавала.
Домик был небольшой, но комнат хватало – десять. Да еще открытая веранда и балкон.
Ближайшие планы Пушкина были очень ясны. Он писал Нащокину:
«Вот уже неделя, как я в Царском Селе, а письмо твое получил только третьего дня. Оно было застраховано, и я возился с полицией и почтой… День ото дня ожидаю своего обоза и письма твоего. Я бы переслал Горчакову тотчас мой долг с благодарностию, но принужден был в эти две недели истратить 2000 рублей и потому приостановился. Теперь, кажется, все уладил и стану жить потихоньку без тещи, без экипажа, следственно без больших расходов и без сплетен».
Ему нужна была остановка в жизни, пауза, потому что жизнь начиналась совсем иная и необходимо было неподвижно прислушаться к себе и к миру и принять решения.
Обоз с вещами из Москвы пришел. Впервые Пушкин зажил своим домом. Выглядело это вполне идиллично.
Встав утром, он принимал холодную ванну, пил чай и поднимался в кабинет, в мезонин. Там ему была уже приготовлена банка варенья из крыжовника и стакан ледяной воды. Он работал.
Наталья Николаевна вышивала в гостиной.
Потом они шли гулять.
«Многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой, обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе, и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль».
Вскоре после приезда пришел он в Лицей. Тогдашний лицеист Я. Г. Грот рассказывал:
«Никогда не забуду восторга, с каким мы его приняли. Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших “дедов”, мы его окружали всем курсом и гурьбой провожали по всему Лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как со старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнату и передавал подробности о памятных местах».
Часто он ходил вокруг Лицея один. Ему было горько здесь. Но он не щадил себя.
Полгода назад внезапно умер Дельвиг. Это было накануне свадьбы Пушкина. Сомов, сотрудник Дельвига по «Литературной газете», писал Баратынскому в Москву:
«Приготовьте Пушкина, который, верно, теперь и не чает, что радость его возмутится такой горестью».
Это была одна из тех вестей, которые сразу и объявить человеку страшно. Все близкие к Пушкину люди знали, как любил он Дельвига. И не только по давней дружбе. Дельвиг был человеком редчайшим. Он был умен спокойным, ясным умом, бесконечно добр и безукоризненно благороден. А для Пушкина, зрелого Пушкина, куда как важны были эти качества.
«Что скажу тебе, мой милый? – писал он Плетневу, узнав об этой смерти. – Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось… Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам; сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертию, – говорили о нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здрав – и постараемся быть живы».
Его не так-то легко было с ног свалить. Не свалила же его судьба Пущина и Кюхельбекера, о которых думал он, глядя на лицейские стены. Их страдания, их крестный путь, наконец, просто отсутствие их играли для него особую роль – до конца жизни.
Но он знал, что надо жить и делать свое дело. Его нелегко было с ног свалить. Он умел справляться с несчастьями. Встречавшие его в то время видели бодрость и спокойствие.
«27 июля, в 7-м часу вечера, я шел к знакомому, жившему во дворце. Я шел парком. Не сделал я двадцати шагов, как вышел из-за деревьев на ту же дорогу человек среднего роста, с толстой палкой в руке. Он шел мне навстречу скоро, большими шагами. Хотя он был еще далеко от меня, но по походке и бакенбардам нетрудно было узнать в нем Александра Сергеевича. Я решился подойти к нему. За несколько шагов, сняв фуражку, я сказал ему взволнованным голосом: “Извините, что я вас останавливаю, Александр Сергеевич, но я внук вам по Лицею и желаю вам представиться”. “Очень рад, отвечал он, улыбнувшись, и взяв меня за руку, очень рад”. Непритворное радушие было видно в его улыбке и глазах… При всей своей славе Александр Сергеевич был удивительно прост в обхождении. Гордости, важности, резкого тона не было в нем и тени, оттого и нельзя было не полюбить его искренно с первой же минуты… Многие расставленные по саду часовые ему вытягивались, и если он замечал их, то кивал им головою. Когда я спросил: “Отчего они ему вытягиваются?”, то он отвечал: “Право, не знаю; разве потому, что я с палкой”».
Итак, жили тихо. Ели однообразно, но вкусно. На обед обычно подавали «зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем и на десерт паренье из белого крыжовника».
Пушкин повторял слова Шатобриана: «Если бы я мог еще верить в счастие, я бы искал его в монотонности житейских привычек». Монотонность житейских привычек, добропорядочность и прочность семейного дома пытался он противопоставить потопу жестокой стихии, окружавшей Россию, Петербург, Царское Село, подступавшей к его душе и уму.
417 ноября 1830 года в польской армии, которую император Николай намеревался отправить во Францию для усмирения революции, началось восстание.
Для Пушкина это было делом еще более серьезным, чем французская революция. Трещины, побежавшие по миру, гибель которого предвидел Чаадаев, пересекли границы Российской империи. Все свое сложное и мучительное отношение к происходящему он изложил на полстранице в письме к Вяземскому. Под вопросом оказалось само существование самодержавной империи. А существование единой и мощной империи было теперь связано в сознании Пушкина с тем великим будущим России, о котором он непрестанно думал в это время и которому собирался способствовать…
С петровских времен существовала идея объединения славян вокруг России. Идея эта стала особенно популярна в начале XIX века. Ее сторонником был Державин.
Первый директор Лицея Василий Федорович Малиновский, человек, которого Пушкин уважал, крупный политический мыслитель, разработал план создания единой славянской державы. Она должна была объединить Россию, воссоединенную Польшу и балканских славян, освобожденных от власти Турции и Австрии.
В первую половину царствования Александра I проекты такого рода занимали серьезное место во внешнеполитических планах русского правительства и вызывали безусловную поддержку общества. «Славянская держава» могла – по убеждению русских патриотов – укротить любого завоевателя. В тот момент речь шла, естественно, о Наполеоне.
Идея эта неизбежно носила в себе революционное зерно – ведь для освобождения угнетенных славян требовалось их восстание. И для передовых русских политиков это движение, естественно, связано было с греческим восстанием, столь волновавшим Пушкина и декабристов.
В двадцатые годы, во время пребывания Пушкина на юге, зародилось революционное Общество соединенных славян. Его конечной целью было сплочение славянских народов вокруг свободной России…
И теперь – в 1831 году – Пушкин решил для себя, что победа восставшей Польши, отпадение ее, окажется чреватым слишком тяжкими последствиями для России и славянства.
Это была традиция декабристского патриотизма.
Спокойной жизни, спокойной работы, спокойных раздумий не получалось. Царскосельские парки, жестяные мандарины и драконы, свой удобный, устроенный дом – все это было идиллическим фоном для мучительных размышлений.
Катастрофические толчки почвы нарастали, пока не поставили империю на край гибели. Так думали современники. Так думал царь.
519 июня 1831 года молодой литератор Никитенко занес в свои дневник:
«Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».
20 июня:
«В городе недовольны распоряжениями правительства… Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу… Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить».
Царское Село оказалось отрезанным от мира карантинами.
Трудно было сохранять душевное спокойствие. Осень прошлого года, болдинское сидение, собственный «пир во время чумы» стали приходить на память. Письма Пушкина той поры полны беспокойства.
Между тем в Петербурге произошел бунт. Было убито несколько ни в чем не повинных лекарей. Император личным появлением слабый этот бунт усмирил. Да это был и не столько бунт, сколько вспышка отчаяния подавленных наступлением непонятного зла людей.
Волнения были и вокруг Петербурга.
Пушкин чувствовал, что можно ожидать худого. Он понимал неустойчивость положения. Недаром писал он за полгода до того:
«Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней… Народ изнурен и раздражен».
Он не ошибался.
Холерные дела, достаточно неприятные сами по себе, стали поводом к мятежу, какого Россия не видела со времен Пугачева.
Кто не знает, что в 1831 году было восстание в военных поселениях. Но мало кто представляет себе истинный масштаб этого восстания и ужас, в который оно привело власть, и воздействие, которое оно оказало на умы людей думающих.
Военные поселения, в том виде, в каком существовали они при Пушкине, были задуманы и организованы Александром I и Аракчеевым с одной достаточно простой мыслью. Мысль эта выглядела так. Россия должна блюсти порядок в Европе. Для этого нужна большая армия. Большая армия стоит дорого. Следовательно, нужно, чтобы часть армии одновременно занималась и крестьянским трудом.
Выполнение этого плана шло с двух сторон. С одной стороны, некоторые армейские части были поселены в деревнях и как бы посажены на землю. С другой стороны – большое количество государственных крестьян было как бы превращено в солдат, занимающихся и хлебопашеством. Через несколько поколений, по мысли организаторов, военные поселения должны были дать России значительную резервную армию, обученную и ничего государству не стоящую.
А что получилось в действительности?
«Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения; все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте дом, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение – смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из Порхова, с тягчайшей доставкою; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров для обстановки его клеткою, и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию; а общий образ его жизни – ученье и ружье. Притом от худого расчета или оттого, что корова в два оборота делает в день 48 верст для пастбища, всякий год падало от 1 000 до 2 000 коров в полку, чем лишали себя позема и хлебородия, и казна всякий год покупала новых коров… В больнице полы доведены до паркетов, и больные не смели прикоснуться к ним, чтобы не замарать; у каждого поселенного полка была мебель, но она хранилась как драгоценность, на ней никто не смел сидеть».