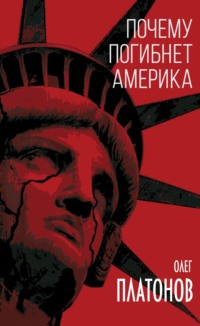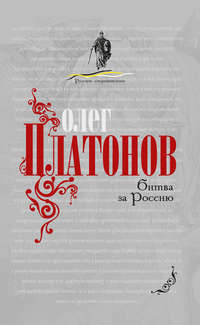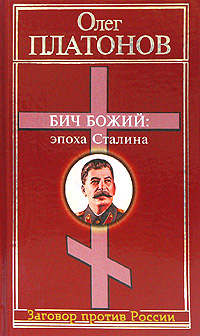Полная версия
Русское сопротивление. Война с антихристом
Летом 1964, 1965 я ездил в пионерский лагерь в Одессу. Лагерь стоял в Аркадии на берегу моря. Тут у меня появились новые друзья, и я впервые ощутил остроту еврейского вопроса и с удивлением узнал, с какой неприязнью относятся к евреям украинские дети. В Одессе жило много евреев, соответственно немало было их и в нашем лагере. Евреями были начальник лагеря и старшая пионервожатая. Пионерская «демократия» требовала выборов совета лагеря, совета отряда, первых лиц этих советов. Старшая пионервожатая, проводившая сборы по выборам в отрядах, зачитывала по заранее заготовленной бумажке фамилии – Курчинская, Гольдман, Гельман, Черная и т. п. В нашем старшем отряде у нее вышла осечка. Заслушав ее список, пионеры предложили несколько других кандидатур. Стали голосовать. Прошли кандидатуры, предложенные нами, а никого из списка старшей пионервожатой не выбрали. Получилось все как-то само собой. Никто из нас и не задумывался о том, что все предложенные старшей пионервожатой кандидатуры евреи. Сработало детское стремление к справедливости. Мы хотели избрать тех, кто нам больше нравился. Однако отвергнутые еврейские кандидатуры быстро организовались и после сбора подошли ко мне с вызовом. Были они высокие, откормленные, высокомерные. Особенно вызывающе вел себя Гельман, бросивший мне в лицо слово: «Антисемит». Смысла и значения этого еврейского ярлыка я тогда не знал, но отлично понял по выражению его лица, что меня хотят серьезно обидеть. Рассерженный, я оттолкнул Гельмана, толчок был несильный, но он не удержался и упал в высокие кусты акации, которые с треском расступились под его телом, а потом сомкнулись над ним. Гельман поднялся, посмотрел на меня ненавидящим взглядом и ушел. За ним потянулись другие еврейские «кандидаты». С этого времени в лагере негласно возникли две партии – русская (неформальным лидером которой стал я) и еврейская. В палате Володя из Киева объяснил мне значение слова «антисемит» и сказал, что считает меня героем. Мне же было ясно, что все произошло случайно, без всякого умысла с моей стороны. Тем не менее я был рад, что этот случай открыл мне глаза на многое. В лагере я подружился с Володей из Киева и Юрой Масловым из Одессы. С ними я еще долго поддерживал переписку. Через несколько дней в лагере снова был сбор, на котором выбирали достойных на роли персонажей на празднике Нептуна. Как мне рассказал Володя, не первый раз ездивший в этот лагерь, раньше на все лучшие роли выбирали евреев. В этот раз лучшие роли достались русским мальчикам и девочкам. В следующем году, когда я снова приехал в этот лагерь, выбор прошли нормально. Однако старшая вожатая однажды пыталась выгнать меня из лагеря «за грубое нарушение дисциплины» – через забор мы регулярно уходили гулять в город и даже пили сухое вино. Попытка ее не удалась. Русская партия в лагере (в нее входили и несколько вожатых) вступилась за меня.
После возвращения из Одессы мои увлечения русской историей и стариной еще более усилились, мои друзья были единодушны со мной. В этот раз интересовали нас больше всего монастыри. От бабушки из Одинцова я привез несколько старых номеров «Нивы» с описаниями Соловецкого и Кий-островского монастыря. Мы стали готовиться к поездке туда в следующую весну.
В июле 1964 по указанию Хрущева был взорван один из великолепнейших памятников русского зодчества храм Спаса Преображения (XVII век) в селе Преображенском. С этого села начиналась Петровская реформа русской армии и первые ее славные победы в борьбе с экспансией Запада. Храм был кафедральным собором митрополита Николая Ярушевича, активного борца с иудейскими сектами, экуменизмом и масонством. Хрущев ненавидел владыку и стремился всеми способами уничтожить память о нем. Сам я на взрыве не был, но по приезде из Одессы несколько раз ездил на Преображенскую площадь, пробирался через дыру в заборе, окружавшем руины храма. Возле забора часто стояли бывшие прихожане, молились и плакали.
Хуже всего у меня дело был с учебой. Окончив восьмилетку, я должен был перейти в другую школу, так как в нашей не было 9—10-х классов. В новую школу я принес свою беспартийность (комсомольцем я не был), самостоятельное отношение к жизни, первое понимание еврейского вопроса, горячую увлеченность русской историей, живой интерес к девушкам. Я хорошо учился только по тем предметам, которые меня увлекали, – истории, литературе, биологии, географии, большую же часть других предметов я в рекордные сроки запустил, особенно математику и физику. А может быть, мне просто не нравился физик, некто Гусман, раздражавший меня своими плоскими анекдотами, которые он рассказывал с самодовольным видом, хихикая, вкладывая в них свой особый смысл, который мне, «тупому», не был понятен. Однажды где-то в ноябре, не выдержав его пошлостей, я молча встал и вышел из класса, устроился в укромном скверике рядом со школой, покуривал болгарскую «Шипку». Тут-то меня и застал наш классный руководитель, сообщив, что мое поведение будут обсуждать на классном собрании. Вечером посоветовался с родителями. Они, конечно, были не в восторге, я сказал, что хочу пойти работать, а учиться буду в вечерней школе. Отец, полагавший, что ни при каких обстоятельствах я не пропаду, дал молчаливое согласие. Мама была в слезах, с трудом я ее успокоил, сказав, что буду учиться вечером и готовиться к поступлению в историко-архивный институт.
На следующей неделе отец оформил меня учеником чертежника в институт, где работал сам. Институт находился на Мясницкой ул. (тогда ул. Кирова) напротив Главпочтамта в историческом здании «дома Юшкова», построенного в конце XVIII века знаменитым архитектором В. Баженовым. В начале XIX века в этом доме размещалась масонская ложа, описанная Л. Толстым в романе «Война и мир». Об этом доме ходило много преданий, которые еще больше возбуждали мою любовь к истории. В первые дни я со своими друзьями обследовал это здание от подвала до чердака. Советская эпоха перекроила историческое здание полностью, разделив залы и большие комнаты тонкими перегородками, и превратила его в нечто вроде муравейника. Тем не менее сохранилась парадная лестница и колонный зал, в котором масоны проводили заседания лож. Во дворе здания жили старики, помнившие его историю до 1917 года. Здесь было знаменитое Училище живописи, ваяния и зодчества, подарившее России десятки великих русских художников. Еврейские большевики устроили в училище погром. Талантливые русские ученики были изгнаны и устроен модернистский вертеп – ВХУТЕМАС, возглавляемый целым букетом «талантливых еврейских юношей». Горько было слушать от старожилов, как при еврейских большевиках историческое здание превратилось в «еврейскую идиллию» – «гнездо разврата, свободной любви, педерастических оргий» (слова одного из старожилов). В 1919 новые хозяева вместе с чекистами шарили по окрестным домам в поисках женщин для «свободной любви». У анархистов покупали самогон. Напившись, стреляли по картинам русских художников. Во время одной попойки «чекист Зяма» вывалился в пролет лестницы, сломав себе позвоночник. Налетевшие чекисты пытались объявить гибель Зямы как теракт черносотенных сил – русских художников, селившихся вокруг бывшего училища ваяния и зодчества[4].
Чертежник из меня получился скверный, чертить и рисовать я так и не научился. Зато, наверно, лучше всех ориентировался в лабиринтах этого особенного здания. Внизу одной из лестниц, закрытой для прохода, мы организовали своего рода клуб, где обсуждали все что угодно, кроме работы. Иногда играли в карты, много курили. Место это было жутковатое, женщины сюда приходить не решались. Отсюда нас время от времени выдергивало начальство для разъездов по городу или на опытный завод. Иногда командировки были долгосрочные, даже в другие города; так, летом меня послали в Одессу, а затем в Ригу. Но больше всего нашего брата-чертежника посылали работать в совхоз, некоторые жили там месяцами. Положительной стороной такой «работы» была возможность учиться и читать. Рядом с институтом была Тургеневская библиотека, а также хороший букинистический магазин, в котором тогда еще за копейки можно было купить интересные и даже ценные книги по истории, философии, экономике. С этого магазина началась моя библиотека, ныне превысившая 20 тыс. томов.
После первой получки я побежал в букинистический магазин и за десятку купил дефектный (с вырванными иллюстрациями) первый том «Русское масонство в прошлом и настоящем»). Впоследствии я приобрел здесь «Историю Москвы» И. Забелина, ряд старинных экономических книг (экономика начинала меня все больше интересовать). Особую радость у меня вызвали покупки отдельных томов энциклопедии «Брокгауз и Ефрон» (они продавались почти бесплатно, по 50–70 коп.). Я в буквальном смысле погрузился в русскую историю, каждый день приносил мне новые открытия. Весной 1967 я узнал от старожилов, живших с нашим Институтом, что, по преданию, в подвале до сих пор существует замурованная комната, в которой сложены книги и ритуальные предметы. Поиску этой комнаты мы посвятили много времени. Почти месяц по утрам и вечерам мы простукивали стены в подвале и нижнем этаже. В некоторые части подвала мы попасть не могли, так как там был устроен, о, ужас, первый в СССР атомный реактор. Поместить атомную бомбу в самом центре Москвы, недалеко от Кремля, было страшным преступлением, на которое были способны только еврейские большевики (поместили ее сюда по приказу кавказского еврея Берии). Если бы случился непредвиденный взрыв, выброс радиации на многие годы сделал бы Москву пустынной.
Наткнувшись на реактор и побеседовав с его охраной – симпатичными стариками-отставниками, мы решили, что комната с масонскими книгами пропала во время строительства реактора. Нашлись и старожилы, рассказавшие, что во время одной из перестроек дома после войны в строительном мусоре, сваленном в центре, валялись испорченные страницы книг и остатки разломанных бронзовых предметов. Один из жильцов дома поблизости продал мне книжку, содержащую секретный список членов Великой ложи «Астрея» за 1820–1821 и две сильно поврежденные книги издания Н. Новикова.
Чувство причастности к какой-то великой тайне вдохновило меня на дальнейшие поиски. Зацепкой стала фамилия «М. Орлов», написанная от руки на титуле секретного списка членов масонских лож. В «Русском биографическом словаре» сообщалось об Орлове Михаиле Федоровиче (1788–1842), генерал-майоре, крупном масоне и директоре Московского художественного класса. Последняя информация подсказывала мне, что я на правильном пути, так как предшественником Училища живописи, ваяния и зодчества был именно Московский художественный класс, арендовавший помещение в доме Юшкова. Орлов был незаконнорожденным, имя матери его нигде не сообщалось, хотя ходили слухи, что она еврейка. Отцом Орлова был граф Ф. Г. Орлов, один из трех известных братьев Орловых. М. Орлов графский титул отца не получил, воспитывался в католическом пансионе аббата Николя, участвовал в работе масонской ложи «Палестина». Во время похода русских войск во Францию Орлов по рекомендации крупного масона Н. И. Тургенева вступает в преступные отношения с представителями самого опасного масонского ордена иллюминатов. Соединяя в себе методы иезуитской организации, тайной инквизиции и патологической жестокости к своим противникам, этот орден вел тайную борьбу за уничтожение христианской Церкви и монархии. После запрета этого ордена в Германии он выступает под вывеской французской масонской ложи «Соединенных Друзей», а затем Тайного союза «Тугенбунд». Именно эти темные силы оплодотворили русское декабристское движение, одним из членов которого стал М. Орлов, основавший тайную организацию «Орден русских рыцарей» и вошедший в руководство «Союза благоденствия», стал руководителем Кишеневской управы тайного общества декабристов. Вероятнее всего, именно Орлов планировал убийство царя в 1817 в Москве в Успенском соборе. Орлов был одним из самых законспирированных руководителей декабристского заговора. Члены тайного общества должны были стремиться достигать важных постов в государстве, притворно выдавая себя за верноподданных, а на самом деле разрушая государство изнутри.
М. Орлов был готов возглавить декабристский путч. По свидетельству А. Е. Розена, 12 декабря 1825 года был совет между Рылеевым, кн. Оболенским и др. о том, чтобы вверить главное руководство над восставшими войсками кн. Трубецкому, «если не прибудет Орлов». После поражения восстания Орлов был арестован, но вскоре освобожден. При его очевидной виновности в преступлении никто из декабристов, несмотря на их трусливое поведение на следствии, не дал показания на Орлова. Многие из них хорошо помнили клятву не выдавать главаря, а иначе «яд и кинжал везде найдет изменника». Мести Орлова декабристы боялись больше, чем русского закона. Орлов был отставлен от всех государственных должностей, выслан в деревню и взят под надзор полиции, но впоследствии ему разрешили жить в Москве, где он наладил связи со своими масонскими братьями, жившими в первопрестольной, организуя вместе с ними заседания тайных масонских лож. Узнав все это, я поразился такому совпадению. Тайный масонский центр, грозивший разрушить русское государство, и чудовищный атомный реактор, способный уничтожить все сердце России, складывались в одну череду событий общенациональных угроз.
Но в 1967 году я гордился своими знаниями; не понимая еще их истинного смысла, я тем не менее чувствовал свою невольную причастность к чему-то очень странному и значительному. Мне не хватало опытного наставника. В христианском смысле оценить смысл новых знаний я еще не мог. Бабушка Поля выслушала меня и строго отчитала, запретив заниматься этой «бесовщиной».
Но я-то уже тогда чувствовал, что интересуюсь этой бесовщиной не на радость бесу, а в ущерб ему.
Весной и летом 1967 в моем сознании происходили изменения – из подростка я превращался в целеустремленного юношу, пока с неосознанными целями, но отвергающего любые попытки просто пустить меня по течению. Образы монастырей и храмов, которые вошли в меня, создали фундамент моей личности. Каким-то особым чувством я понял, что именно там хранится главное в жизни человека, то, ради чего человек создан и ради чего его жизнь имеет смысл и ценность. Я стал посещать церковные службы, тихо заходил, становился в уголке и молился. Полюбив христианские образы и видя, в каком состоянии находится большинство христианских храмов, я начал осознавать, что против христианства идет непрекращающаяся борьба. Почти физически я начинал осознавать, что чистые, светлые силы бытия подвергаются атаке темных, страшных чудовищ, ненавидящих любимые мною храмы и саму Россию.
Конкретные примеры такой атаки я видел в разрушении церквей и памятников, исторических застроек Москвы. В 60-е годы на моих глазах закрывались и разрушались церкви. Взрывается ряд ценных архитектурных построек в Кремле, сносятся церковь Благовещенья, что на Бережках, 1697 год (на Ростовской набережной), Тихвинская церковь в Дорогомилове, 1746 года (около Киевского вокзала), Преображенская церковь XVIII века (на Преображенской площади), церковь Иоакима и Анны XVII–XVIII веков (на ул. Б. Якиманка) и Николы Чудотворца в Ямах XVII–XVIII веков; исчезают с лица земли Собачья площадка, дом Хомякова (где в 1920-е годы находился музей 40-х годов XIX века), десятки старинных московских домов и особняков.
Вместо разрушенных самобытных старинных московских построек возводятся безликие, однообразные коробки, спроектированные архитекторами-космополитами Посохиным, Макаревичем, Иофаном, Гельфрейхом и т. п. Ни одна столица мира не знала такого варварства в отношении к бесценным памятникам национального зодчества, которое в Москве осуществляют «творцы» вроде Посохина. Этот архитектор-космополит, «подаривший» Москве унылое, стеклянное здание Дворца съездов в Кремле, при осуществлении своего плана застройки Арбата (Калининского проспекта) с какой-то патологической яростью настаивал на сносе русской церкви XVII века на Поварской улице. К счастью, русские патриоты в буквальном смысле слова легли под бульдозер, но не позволили уничтожить святыню.
В это время у меня возникает идея написать полную историю московских улиц. Проследить по архивным источникам, как развивались архитектурные формы жизни из века в век, из год в год. Как на место изб приходили особняки, затем доходные дома. Мистическое движение жизни в архитектурных формах, быт простых и великих людей завораживали меня своей неодолимой тайной.
Осенью 1967 года мы поехали на обследование скита Саввино-Староржевсого монастыря. Какой-то знакомый Гены сообщил нам, что там на чердаке сохранились старинные книги. Мы обшарили все, нашли немало остатков церковной утвари, а книг не было. Возвратившись, мы собрались у Гены и стали обсуждать дальнейшие планы. В этот вечер я впервые встретился с роковой для нас с Геной девушкой по имени Наташа, получившей от Гены прозвище Миледи в духе романов Дюма. Это было очаровательное белокурое шестнадцатилетнее создание, чувствовавшее свою власть над мальчиками и получавшее от того явное удовольствие. Ни я, ни Саша до этого дня не знали ее, только слышали, что она и есть таинственная дама сердца Гены, в которую он был влюблен и о которой много говорил. Мне она сразу же понравилась; увидев ее, я растерялся. Она это почувствовала. После ее появления наша монастырская тема сразу же заглохла. Мы начали нести какой-то вздор, много смеялись. В конце концов я вызвался проводить Наташу до дома. На следующий вечер мы уже целовались. Вечерние встречи у Гены прекратились, так как все свободное время я проводил с Наташей. Несмотря на мою опытность, дальше поцелуев наши отношения не шли. Дамой сердца Гены Наташа стать не желала, ее больше тянуло ко мне.
Гена ревновал, переживал. В разговорах с Сашей называл меня предателем, а Наташу «коварной Миледи», хотя она никаких обещаний ему не давала. Гена даже заболел. Мы пришли его навестить. Его мама шепотом сообщила нам, что сын страдает от «жестокой, бессердечной девочки, которая отказывается даже разговаривать с ним по телефону». Генина мама просила нас чаще посещать сына. Но видеться с Геной мне с каждым разом становилось все труднее. Он рассказывал о Наташе всякие небылицы, называл ее девушкой легкого поведения. Портились отношения и с Наташей. Ее возмущали выдумки Гены, которые он распространял среди наших общих знакомых. Наташа считала Гену подлецом, настаивала, чтобы я порвал дружбу с ним. Наташа была мне нужна, меня тянуло к ней, но и с Геной я не мог порвать. А он чувствовал мою растерянность, проявлял чудеса интриганства, через третьих лиц распространяя слухи, что Наташа якобы встречается еще с одним парнем. В этой интриге он нашел себе союзника в лице моей одноклассницы Тани Прохоровой, которую я воспринимал как друга, а она имела на меня свои девичьи виды. Некоторое время я и Наташа продолжали встречаться, перезванивались, но как-то незаметно между нами вырастала стена. В начале 1968, когда, казалось, все отношения между нами угасли, она вдруг позвонила мне и сказала: «Один человек предлагает мне стать его женой. Как мне быть?»
– Ты его любишь? – просил я.
– Не знаю.
– Решай сама.
Сказав это, я почувствовал, что теряю что-то важное, хотя по-настоящему все понял позднее. Тем более как раз в это время я встречался с девушкой Ниной, жившей рядом с Петровским парком недалеко от Академии Жуковского (бывший Путевой царский дворец). Почти рядом с ее домом находился особняк «Черный лебедь» масона Рябушинского. И какие действительно бывают в жизни совпадения – дед Нины до революции приходил наниматься к Рябушинскому на работу. После 1917 в особняке устроили ресторан, а в 30-е годы – одну из «шарашек» ГУЛАГа – научное учреждение, где работали заключенные. Отец Нины, инженер, был осужден по политической статье «за анекдот» и попал в эту «шарашку». Гуляя с Ниной по окрестностям Петровского парка, я еще не знал, что при большевиках здесь проходили расстрелы русских патриотов, здесь же зарывали их тела. Еврейские палачи убили, в частности, духовного русского писателя о. Иоанна Восторгова, близкого Царской семье епископа Ефрема, министров-патриотов царского правительства И. Г. Щегловитова и Н. А. Маклакова. Наши горячие поцелуи и объятия проходили рядом с этими святыми для каждого русского человека местами, совсем по Пушкину: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть…»
Ранней осенью 1967 года моя мама составляла смету на ремонт дома по Газетному переулку. При осмотре одной из квартир она познакомилась с Евдокией Федоровной Никитиной, женой расстрелянного в годы революции крупного масона, министра внутренних дел Временного правительства А. М. Никитина. С 1914 Никитины собирали салон, в котором опытные «вольные каменщики» подготавливали себе смену. Заседания салона под названием «Никитинских субботников» продолжались и после расстрела Никитина в 1920-х годах. В заседаниях участвовали член Великого Востока Франции А. В. Луначарский, глава розенцрейцеров Б. М. Зубакин, Н. Л. Бродский, Ю. И. Айхенвальд, Л. П. Гроссман и др. Регулярно приглашалась студенческая молодежь. В 30-е годы Никитинские субботники прекратились, чтобы возобновиться в «оттепель». Никитина и «зубры» либеральной интеллигенции 20-х годов привлекали сюда молодежь, стремясь воспитать ее в духе космополитических идеалов и западного либерализма, привить вражду к русской истории и Православной церкви. Мама, услышав, что «Никитинские субботники» продолжают собираться, и зная мою любовь к литературе, попросила Никитину разрешить мне посещать эти вечера. Никитина, к тому времени семидесятидвухлетняя старушка, милостиво разрешила, выдав в качестве пропуска пустой бланк с эмблемой «Никитинских субботников».
В ближайшую субботу я прибежал на заседание в числе первых. Меня провели в большую комнату с длинным столом посредине, уставленным тарелками с печеньем и пирожками и чашками с блюдечками, двумя большими чайниками. Стулья вокруг стола стояли в два ряда. Молодежь вроде меня рассаживалась во второй ряд. Впрочем, во втором ряду сидели не только молодые. Было довольно тесно, вдоль стен стояли закрытые шкафы. С некоторым опозданием появились «мэтры», быстро заполнившие первый ряд и сразу же приступившие к чаепитию. Большинство присутствовавших знали друг друга. В этот день присутствовали мэтры Борис Абрамович Слуцкий и Владимир Моисеевич Луговой, критик Нея Марковна Зоркая.
Вечер начал Слуцкий. Сказав несколько слов о воспитании молодежи в духе коммунистических идеалов и интернационализма (и как я понял уже позже – еврейского мессианизма), поэт без всякого перехода начал декламировать свои стихи, с завыванием и выкриками. Мне, воспитанному на Пушкине и Тютчеве, содержание его стихов не было ясно, казалось, что они были зашифрованы для избранных. Еврейская студенческая молодежь, обильно присутствовавшая на вечере, каждое стихотворение принимала с восторгом, дружно хлопая. Я не хлопал, задумавшись, искренно стараясь понять смысл стихов. После выступления Слуцкого и попытался обсудить его стихи с одним из наиболее ревностных его поклонников. Мои вопросы поклонник расценил как скрытую иронию (или издевательство) и металлическим голосом сказал: «Ты ничего не понимаешь в великой (!) поэзии!» – и отвернулся. За чаем, который пили только мэтры, началось обсуждение. Мне запомнилось, что Зоркая открыто ругала А. Твардовского за то, что он не любит «Женю Евтушенко», колхозник Твардовский не может понять великого поэта. Вообще все обсуждения сводились к восхвалениям «великих», которыми, как правило, были евреи. Иногда было такое ощущение, что русская классическая литература существует параллельно с «современной великой», которую воплощают Пастернак, Эренбург, Слуцкий, Евтушенко, Шкловский, Маршак. Светлым воспоминанием вечера стало выступление дочери поэта К. Д. Бальмонта Нины. С большой теплотой и чувством она читала стихи отца и рассказывала о нем.
На следующем субботнике у Никитиной много говорилось о романе Цветаевой и Б. Пастернака. Никитина показывала кресло, на котором они целовались в ее доме. Подробности этого романа в устах Никитиной носили какой-то мелочный характер. Потом выступал некто Федоров (?). По его версии, Маяковский не покончил жизнь самоубийством, а был убит черносотенцами из круга Есенина. Без всякой связи, как о чем-то наболевшем, перекинулся на тему современных черносотенцев. По мнению большинства присутствовавших (мнение это никто не оспаривал), современными черносотенцами были М. Шолохов, Л. Леонов, И. М. Шевцов и другие русские писатели, «клевещущие и преследующие» великих и талантливых евреев. На этот вечер я принес подписать письмо в МГК КПСС с протестом против намечавшегося сноса церкви св. Николая. Письмо я пустил по рядам. Хотя в комнате присутствовало около 30 человек, свою подпись поставили только два студента, а Никитина попросила меня больше не приносить на ее субботники «подобные бумаги».
Третье и последнее посещение «Никитинских субботников» – этой кузницы космополитических, антирусских кадров, было связано с большим скандалом. Вечер начался с чтения стихов какого-то молодого поэта, которого дружно назвали талантливым и многообещающим. А затем слово попросил учитель из Одессы некто Ефим Махровский (?). Он заговорил о необходимости развеять «черносотенные мифы русской истории». Для начала он объявил «Слово о полку Игореве» грубой фальшивкой вроде Велесовой книги, поздней выдумкой русских «патриотов» (в устах Махровского это слово звучало как ругательство). По мнению учителя из Одессы, говорить о русской культуре до XVIII века некорректно. Она пришла в Россию с Запада с Петром I. Согласно Махровскому, Древняя Русь не была самобытным славянским государством, а искусственным образованием, рожденным еврейской культурой. История Руси создана евреями. Они дали ей не только свое имя (Кий, по Махровскому, был евреем) но и правящую династию Рюриковичей. Пассивное начало славянских племен оплодотворялось еврейской активностью. На этом вечере я услышал и другие откровения в таком же роде. Древняя, но очень агрессивная бабушка по фамилии Брунштейн поведала присутствующим о решающей роли евреев в строительстве СССР. Сколько выдающихся еврейских деятелей отдали свою жизнь во им революции и победы нового общественного строя! Подавляющая часть революционных вождей были евреями! Бабушка Брунштейн рассказала о том, что сам Ленин по матери был евреем.