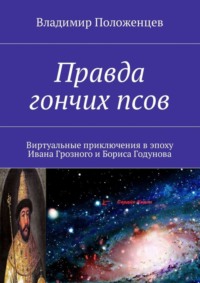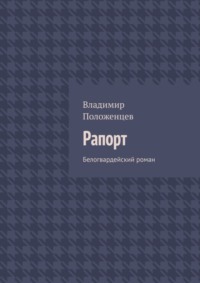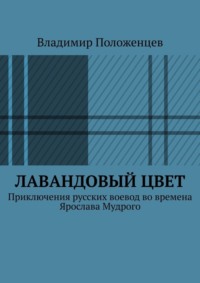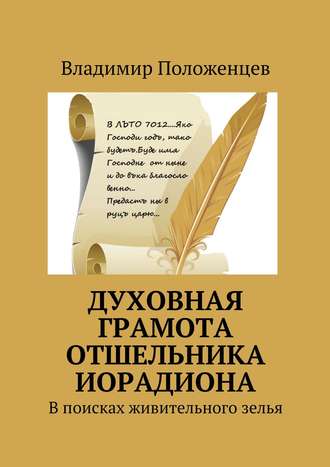
Полная версия
Духовная грамота отшельника Иорадиона. В поисках живительного зелья
– Тебе что надобно, отрок? – спросил священнослужитель на хорошем родном языке.
Федор, наконец, понял, что человек на иностранца не похож, что машина вовсе не «Тойота», а родные «Жигули». Поп приближался так решительно, что, казалось, хочет отвесить Арбузову подзатыльник. Вдруг он замер. Со стороны леса к дороге приближался, медленно перебирая негнущимися в коленях ногами, Шланг. За его плечами висела облезлая рация, из которой торчала трехметровая антенна. Шланг что-то бубнил в микрофон, а рация, включенная на полную громкость, издавала все известные и неизвестные народам мира ругательства.
– Отставить! – заорал Шланг. – В случае сопротивления, приказано открывать огонь на поражение!
– Так вы солдаты! – вдруг догадался батюшка, – Милые вы мои, беглых, не иначе, ловите?
– Беглых, – согласился Арбузов, – причем иностранцев.
– Понимаю.
Батюшка оказался бывшим майором-танкистом, которого уволили из армии по состоянию здоровья. Его печень уже не справлялась с алкоголем. Он дал Федору и Шлангу, видя их состояние, совет:
– Утром никогда не опохмеляйтесь водкой, она всегда требует продолжения. От пива сплошная тяжесть и хмарь. А лучше выпейте пузырек валерьянки. Через час будете как огурцы. Я ее всегда с собой вожу, хотя давно уже завязал.
Священник слазил в бардачок, сунул в карман Шланга два пузырька с темно-коричневой жидкостью, перекрестил напарников и «Жигули» помчались к Москве.
Федор вспомнил командира полка, который тогда в бункере тоже что-то кричал прапору из хозвзвода про валерьянку, но его нестройные мысли окончательно разбила рация, которая вновь начала неприлично ругаться.
К вечеру Федор и Шланг почти протрезвели и, заглянув в пустую тетрадку, поняли, что дело пахнет дисциплинарным батальоном. Они бросились к рации, вызвали «Шестнадцатого», и, сказав, что у них садятся батареи, попросили продиктовать все номера проезжавших за день иноземных автомобилей.
– Что, мужики, заквасили? – добродушно откликнулись с переднего поста. – Ладно, записывайте, но завтра наша очередь шары заливать.
Успокоившийся Федор, внес в столбики непривычных иностранных номеров еще несколько, выдуманных им самим – чтобы было больше. Правда, позже он еще раз убедился в верности любимой им поговорки – не надо как лучше, нужно как положено. Словом, в тот день вроде бы все обошлось.
Началось на следующий. Утром, не назначая никаких конспиративных встреч, Пилюгин вызвал Федора в свой штабной кабинет.
– Вот какое дело, – начал он, – по вашим записям получается, что вчера мимо вас в Москву проехало семьдесят восемь иностранных автомобилей. А вот восемнадцатый пост зафиксировал только семьдесят пять. Куда же три машинки-то подевались? Наверху, – особист указал пальцем в портрет Дзержинского, – требуют объяснений.
– Капиталисты, что с них возьмешь, – пожал плечами Федор.
Особист резко встал, сладко потянулся всей своей долговязой, как у Железного Феликса фигурой. Затем, поправил роговые очки на хитром лице, сказал:
– Вот что, Федор, вы мне про капиталистов не заливате. Вы вчера с рядовым Шлунгером пьянствовали, как извозчики, вот и понаписали всякой ерунды. От вас до сих пор вином пахнет.
– Не вином, – обиделся Федор, – валерьянкой.
– Вы что валерьянкой лечились? Помилуйте, кто же этим средством здоровье поправляет?
Пилюля мягко, как кот подошел к подоконнику, взял белый фарфоровый чайник. Наполнил из него наполовину солдатскую алюминиевую кружку, протянул Федору.
– Это клюквенный морс с капустным рассолом. Мне это средство однокурсник подсказал. Верное дело, а вы – валерьянка.
Федор сделал глоток пахучей бурой жидкости и почувствовал, как на внутренности словно набросили теплую шаль.
– Да, на литр смеси – тридцать граммов чистого спирта, – пояснил особист, – но не больше! А теперь перейдем к делу, берите бумагу, пиши донесение.
– По поводу?
– По поводу того, что вчера, с разрешения ефрейтора Шлунгера, вы отлучились со своего оперативного поста на Симферопольском шоссе в ближайшую деревню за водой. И на опушке леса заметили, как по проселочной дороге, в сторону бункера с засекреченной аппаратурой связи, направляются три иномарки. Есть там бункер ЗАС, не переживайте. Возле бункера машины остановились и вышедшие из них люди стали проводить возле ЗАС какие-то измерения. Номера их автомобилей вы и переписали.
– А что дальше? – поинтересовался Федор.
– Хм. Будем искать. – Пилюгин вновь указал пальцем на висевший над столом портрет Феликса Эдмундовича.
Все остальные дни Федор со Шлунгером несли службу честно, на сухую.
Через неделю после закрытия олимпиады Арбузов получил по почте письмо. На листе было написано всего две строчки: «Завтра вы в наряде по столовой. После отбоя приходите в мой кабинет. В штаб заходите со стороны леса, чтобы никто не видел. Пилюгин».
Ну и конспиратор этот Пилюля, что-то еще придумал, вздохнул Федор.
В пятницу, после отбоя, в грязной телогрейке и в х/б образца сороковых годов, Арбузов проник в войсковой штаб и без стука просочился в кабинет особиста.
Внутри было темно, как под одеялом и Федор догадался, что особист специально плотно занавесил окна черными шторами. Сразу вспомнились заброшенное хранилище и спасавшийся бегством от позора командир полка.
– Здравствуйте, товарищ рядовой, – раздался незнакомый голос откуда-то с боку. Подойдите сюда, садитесь на стул.
Арбузов нащупал впереди спинку стула, осторожно сел. Не зная куда смотреть, как филин крутил головой во все стороны.
– Вы где живете? – поинтересовался голос.
– В казарме, – ответил Федор.
– Да нет, откуда родом?
– А, деревня Старые Миголощи тверской области.
– И как там у вас?
– Да как… Совхоз там у нас поблизости, на Волге. Ферма молочная. А еще быков полостнорогих выращиваем.
– Каких быков? – изумились из темноты. – Ну ладно, мы очень рады сотрудничеству с вами. Донесения ваши очень ценны. Особенно последнее, об иностранцах, что у секретного бункера проводили замеры. Мы уже установили их личности и сейчас ведем за ними наблюдение.
– Правда?! – искренне удивился Федор.
– Точно так, – прорезался уже Пилюля, – скоро возьмем.
– За важную информацию и проявленную бдительность, товарищ рядовой, – продолжал голос, – объявляю вам благодарность и вручаю ценный подарок.
Федор почувствовал, как в руки ему пихают какой-то сверток. Правда, в следующую секунду неизвестная личность этот сверток отдернула.
– Вы получите подарок перед демобилизацией, а то сами понимаете, возникнут у ваших товарищей ненужные вопросы.
Только за два дня до увольнения в запас Федор узнал от лейтенанта Пилюгина, получившего к тому времени капитанские погоны, что летом он разговаривал с генералом КГБ с Лубянки. Высокопоставленный чекист пожелал лично познакомиться с агентом Негоциантом, который «помог сорвать экстремистские планы западных разведслужб – вывести из строя засекреченную аппаратуру связи войск ПВО Московского военного округа, разоблачить их и тем самым сохранить и даже приумножить обороноспособность страны».
В свертке оказались абсолютно новые хромовые офицерские сапоги – высший шик по тем временам для дембеля. Пилюгин, от имени своего руководства, предложил Федору подать документы для поступления в Высшую школу КГБ. Федор вздохнул:
– Какой из меня контрразведчик? Вот хвосты быкам крутить, это да, мое.
– Ну, тогда бывай, – пожал ему руку Пилюля. – Может, еще увидимся.
Очнувшись от воспоминаний, бывший агент Негоциант еще раз протер тряпкой любимые армейские сапоги и вышел из тесной комнатушки во двор.
Ночная сказка
В лето 7204-го, от с.м., месяца ноября, в 29-й день. Москва, Заяузье.
В резных, румяных от брусничной краски палатах боярина Скоробоева пахло тяжело, несвеже: застоявшейся маринованной редькой, перекисшими солеными огурцами, вчерашним чесноком и похмельным духом. Всем этим насквозь пропитались и хоромы, и челядь.
Как ни старались дворовые девки, по указанию матушки Февронии Федоровны, выбить из палат отвратительный запах, как ни обкуривали комнаты, подвалы и кладовые всякими благовониями, как ни бросали раскаленные камни в медные тазы с мятной водой, ничего не получалось. Тяжелый аромат лез в ноздри из всех щелей и углов.
Что и говорить, уважал вино боярин Скоробоев. Особливо крепкую настойку на березовых сережках. Раньше с зельем Ерофей Захарович сильно не дружил, а привязался к нему после того, как стрельцы подняли на копья двоюродного брата Артамона. Страшно было, еле спасся, отсиделся, смешно сказать, в бочке с квашеной капустой. А так непременно бы краснокафтанники крест сорвали. И потом чуть ли не полгода дрожал под одеялом, ожидая людишек из приказа – а от чего ж тебя, Ерофейка, пожалели, можот ты с ними заодно был? Ох, времена.… Только и уберегала от разрыва сердца настойка.
И сыновья боярские Петр и Демьян как с цепи сорвались, не отставали от отца в дружбе с Бахусом. Пили и в обед, и в ужин, и так, между прочим. Днем предпочитали хлебные или фруктовые, очищенные много раз молоком, творогом и углями горячие вина. А перед сном, как и родич, требовали березовую настойку.
Наверху, в небольшой комнатенке, что находилась справа от крутой дубовой лестницы, на столе догорала в застывшей сальной лужице свеча. Она отчаянно мигала, готовая в любую минуту погаснуть. Следовало поменять. Или просто потушить. Кто их знает, угомонились они уже, али нет, надобно им свету, али теперь ничего не надобно?
Весь вчерашний вечер Ерофей Захарович слезно упрашивал важных гостей занять его светлицу и почивать на лебединых перинах. Да какое там! Уперлись дорогие гостюшки аки свиньи в корыто и все. Пришлось смириться, препроводить их в эту язвину, где обычно ночуют дворовые Мишка и Гришка.
Поднялся, осторожно заглянул в приоткрытую дверь. На широкой сосновой лавке постанывал, шевелился один из них. Высвободил из-под медвежьей шкуры ногу в валенке, пихнул того, что лежал рядом на полу.
– Эй, зайчатник, ну, черт бы тебя побрал, спишь что ли?
Ерофей Захарович отпрянул, подался назад, чуть не кувырнулся с лестницы, замер. Слышно было, как «зайчатник» подскочил, видимо, уставился своими мутными холопьими глазами на хозяина.
– Что, минхерц, звери избяные закусали?
– Если б звери, квасу дай. Из чего только Захарыч свое вино варит, из мочи? Во рту – пустыня. Пушки не льет, сукно не ткет, на кол прикажу посадить бездельника.
– И то дело, – откликнулся царский холоп.
Мелко перекрестившись, боярин Скоробоев попытался спуститься вниз, да ступень предательски скрипнула. Так и замер как подвешенный, с одной поднятой ногой. Господи, не дай пропасть.
– Сию минуту, Лексееич.
По тени на стене боярин видел, как Алексашка, собачий сын, накинул на голое тело тулуп, отлепил от стола огарок, зашлепал босыми ногами к двери. На пороге остановился.
– А может, это… вина пользительней будет?
– Пропади, аспид! – крикнул царь. – Верно, маменька говорит – вы меня споить хотите, да со свету сжить. Всем вам головы посворачиваю, а сам в Кремле сяду, как брат Иван. Или к римскому Кесарю убегу. Что мне от вас проку?
Государь закашлялся. Под шумок Ерофей Захарович сбежал вниз, спрятался за печкой, затаился. Алексашка выскочил за дверь, у него тут же погас огарок. Спускаясь впотьмах по скользкой лестнице, Меншиков пару раз приложился о низкие перекладины. Взвыл.
– Где вы тут, стадники, куда все попрятались? – застучал он кулаком по перилам.
Дворовые людишки повылазили из щелей как клопы, засуетились, запалили свечи и лучины. Боярин скинул шубу, взъерошил волосы, мол, спал без просыпу, выступил вперед.
– Царь опохмела требует, – сказал Алексашка, взглянув на Скоробоева с некоторой усмешкой. Он не забыл времена, когда его и близко не подпускали к боярским дворам, а ныне тут ему кланялись. – Водки твоей березовой не надобно. Не приглянулась она Петру Алексеевичу У него от нее томление. Грозился тебя, дурака, на кол посадить. Вели собрать там чего: квасу что ли, огурцов. И щей кислых не забудь.
– Господи Иисусе! – вскинулся в ужасе боярин. – Сей же момент все будет. Сам поднесу. А ну, – замахал он руками на челядь, – торопливей у меня!
Вскоре во временную опочивальню царя Ерофей Захарович лично внес большой серебряный поднос с горшочком щей, маринованной стерляжьей головой, мисками, шкаликами, стеклянным графинчиком, крынкой кваса.
– Вот, Петр Алексеевич, лучшее похмелье, какое нам известно, – сказал он кланяясь.
– Чего припер-то? – поморщился Меншиков, окидывая горящим взглядом снедь. – Сказано тебе вина не надобно.
Боярин заводил из стороны в сторону бородой.
– Энто, Александр Данилович, старинное русское похмелье. – Скоробоев указал дрожащим пальцем на тарелку с каким-то месивом. – В мисочке тертые соленые огурчики с чесноком и луком, да холодными ломтиками баранины. А сверху уксусом яблочным полито. Мой родич гнозией сие величал, гнозия по-гречески – наука. Похмельной наукой не всякий владеет. А в графинчике – горячее хлебное вино, водочка чистейшая на хлебных корках настоянная. В крынке квас ржаной на грушевом отваре с хреном.
– Ты русского языка не разумеешь? – перебил боярина Меншиков. – Иди прочь с водкой.
– Ну, ну, осади, не очень-то! – прикрикнул на своего закадычного дружка царь Петр, – говори, Ерофей Захарович, чего там еще о верном похмелье знаешь, интересно.
Боярин почувствовал свободу, раскрепостился. Может и пронесет.
– Первым делом надобно испить два стаканчика, не более, хлебной водочки, а опосля сразу закусить гнозией. Всю скушать, без остатка. Потом ужо опрокинуть добрую кружку грушевого кваса с хреном, пожевать хрящей стерляжьих. И поспать малость. Егда проснешься, голова сделается ясной, будто купола на Успенском соборе, – боярин несколько раз перекрестился.
– Не брешешь? – недоверчиво покосился на Скоробоева государь. Однако внутри стояла такая сушь, а ко всему прочему разболелась голова, что он был готов поверить в любое чудодейственное средство. – Ладно, садись ближе.
Меншиков подвинулся на лавке, первым взял ложку, попробовал гнозию.
– А ничего, минхерц, с утрева, по-моему, в самый раз.
Морщась, царь испил из золотого шкалика водку. В голове несколько прояснилось, боль стала отступать. Закусил гнозией. Захотелось выпить еще, но нельзя, у маменьки сегодня быть обещался и с Ромодановским говорить о посольстве в Европу. Стрельцы вроде присмирели, пора ехать, ума набираться по корабельному делу. Да и по другим наукам разным тоже. Гнозия, а ничего, оживляет. Надо бы с винопивством попридержаться. Вон уже мнихи ропщут, старец Авраамий из Андреевского монастыря послание прислал. Обвиняет меня, царя – батюшку в «потехах непотребных». Вообще-то и ему давно пора крысиную морду своротить, суется, куда не следует. Ладно, успею.
– А что, Захарыч, – спросил, ломая стерляжью голову Петр. – Иного доброго похмелья разве нет, кроме гнозии? Слышал Гришка Отрепьев с перепою лягушек живых жрал.
Ерофей Захарович хитро прищурился.
– На то он и самозванец, чтобы всякой нечистью кишки набивать. – Отер уголки губ, расселся на лавке, давая понять, что ему есть о чем рассказать царю.
Меньшиков без спросу налил себе, выпил, потом еще.
– Будет, – подпихнул его царь, продолжай, боярин.
Втянув ноздрями воздух, который показался Скоробоеву свежее утреннего ветра, помяв пальцы, унизанные тяжелыми перстнями, продолжил:
– В старину, еще при великом князе Василии Темном, знали весьма пользительное похмельное зелье. Сразу на ноги ставило, сколько с вечера не выпей. Называлось оное – заряйка, что у волжских народов означало зарю, рассвет, просветление после хмари. Сию заряйку один отшельник изготовил. Походило то зелье на вино шипучее, да не пьянило.
Обретался сей отшельник-старец на Волге, на малом островке княжества Тферского. И, якобы, был он когда-то боярином, да не простым, а сродственником великого князя. Егда Шемяка с Иваном Можайским пленили Василия Васильевича в Троицком монастыре, боярину удалось сбежать да затаиться в глухом месте, на речном острове.
– Да, – огладил густую бороду боярин Скоробоев, видя, что и царь и холоп Меншиков внимательно его слушают. – Великого князя Василия супостаты скрутили, потому как вся его стража вином упилась. Шемяка его в Москве и ослепил. Словом, пропили стрельцы светлые княжеские очи. Что ж, видно, и татарве не гулять бы долго по Руси, ежели бы не винопивствовали люто русские князья и не грызлись промеж собой с похмелья.
Речь Ерофея Захаровича проистекала мелодично, неспешно, будто былину сказывал. Царь разомлел и от гнозии и от рассказа.
– Сродственник Василия решил более в Москву не вертаться, а поселиться вдали от людей, в Тферьском княжестве, сделаться отшельником. А ко всему прочему изготовить зелье, которое могло бы избавить Великое княжество Московское от пьяного недуга. Нет, не от пития, уберечь. Это невозможно. «Руси есть веселие пити, не можем без того жити!» – говорил князь Владимир Святославович. А спасти от жестокого похмелья, что и заставляет вновь браться за чарку.
– На кого, боярин, намекаешь? – грозно сверкнул очами Петр, наливая себе очередной стаканчик водки. – Думаешь, я забыл про твои делишки с Сонькой? Смотри у меня, все припомню.
Царь выпил, закусил гнозией, погрыз рыбью голову, подобрел.
– Ну, уж не трясись, сказывай дальше.
Боярин пожевал гнилыми зубами неосязаемую во рту крошку, продолжил:
– Так и убег княжеский клеврет от Шемяки, боясь смерти, уединился на Волге, вырыл себе нору под огромным дубом и стал выдумывать похмельное зелье. Одно лето, а то и два, может и десять копошился он на острове, не ведомо. Токмо эликсир все же изготовил.
Вначале испробовал его на деревенских смердах и те, все как один, поутру водкой, али чего они там в те времена пили, опохмеляться перестали. Тогда пустынник послал в Кремль великому государю Ивану III подарок – два бочонка снадобья с посланием – так, мол, и так, примите на пробу от божьего человека пару ведер чудодейственного эликсира. Оное, де, спасет русские души от нестерпимого пьянства и растления.
Похмелье средство понравилось государю Ивану Васильевичу. Он велел доставить отшельника ко двору.
«Вот, что, кудесник, – сказал царь, когда к нему привели нечесаного, пахнущего трясиной и мухоморами старца. – Ты зелье-то свое вари, да токмо для меня лично. И рецепта чудодейственного никому не открывай. Я намереваюсь монополию на питие ввести и кабаки государевы повсюду устроить. А что же энто будет, ежели мужики, да стрельцы, да все остальные людишки опохмеляться вином холодным и горячим перестанут? Никакого пополнения казне. Один убыток. Так что зелье твое хоть и верное, но для государства нашего страшнее татарского нашествия».
Загрустил старец, не на то он рассчитывал. Хотел спасти землю русскую от напасти дьявольской, а выходит, должен сидеть он в подвалах кремлевских и варить варево для царя Ивана, чтобы тот с перепою да ночей бурных в одиночку живот свой поправлял.
Не открывшись никому, что он в прошлом ближний боярин великого князя Василия Васильевича, что у него в Москве палаты и сродственники за Белым городом, старец взял да и сбежал обратно к себе на остров.
Не успел отшельник добраться до своей норы, как приплыли к нему на стругах смерды из окрестных деревень.
«Ты, – глаголят, – старец, вестимо, божий человек. И зелье твое волшебное, с перепою жуть как помогает. Однако не хотим мы его больше пить, не надобно. Никакого веселья от него душе человеческой нет. Что же энто выходит? Погулял с вечера, скажем, до смоляных глаз, а с рассвета на работу? Нет, мы так не желаем. Первейшее удовольствие – это поутру с похмелья вина горячего али меду крепкого испить, да потом день другой в запое покуражиться. Мы бы сами твоего зелья и не пили никогда, если б не бабы наши. Насильно в глотку вливают. Так что снадобья похмельного нам твоего не надобно, а ты сам не порть мужиков и уходи куда-нибудь отсюда прочь».
Но отшельник, уходить со своего насиженного места не собирался. Дураки мужики, – рассуждал он, счастья своего не зрят и не разумеют. Однако придет время, оценят меня на всей Святой Руси.
А между тем разгневался государь-самодержец Иван III, что кудесник седовласый сбежал от него и приказал, во что бы то ни стало вернуть пустынника в Кремль.
Примчались стрельцы на остров и увидели возле многовекового дуба распростертое тело старца с разрубленной головой. Кровища еще даже не запеклась. Кто-то совсем недавно отправил отшельника гулять по райскому саду.
На покойнике стрельцы обнаружили золотую иконку с каменьями и именным вензелем рода Налимовых. Не стали ее красть убивцы, видно, богобоязненными были. А в норе государевы люди нашли красные сафьяновые сапоги, кафтан, расшитый золотом и шелковые порты. Все говорило о принадлежности отшельника к именитому роду. В той же язвине хранились бочонки с ягодами и толченой бурой травой. На одной из кадок было написано: «ЗАРИАIКА».
На противоположном краю острова, в зарослях ивы стрельцы отыскали целую винокурню – чаны, кадки, сосуды малые и большие, деревянные черпалки и прочую утварь убиенного пустынника.
По причине смертоубийства отшельника, с пристрастием допросили всех окрестных мужиков и баб. Многих пытали на дыбе, рвали раскаленными клещами ребра и ноздри, да так ничего и не узнали. Смерды и свободные землепашцы не отрицали, что увещевали старца убраться с Волги куда подальше, потому как не ведали, что кудесник именитого рода, но в убийстве не сознавались.
Когда Иван III узнал, что пустынник ни кто иной, как его дальний сродственник, сменил гнев на милость. Однако велел похоронить Налимова не в родовой усыпальнице, а в Ильинском монастыре, что находился недалеко от того волжского острова.
Что же касается самого зелья, то пятеро мужиков, которые помогали боярину его варить, показали: в большой чан боярин засыпал измельченные корни папоротника и корни белых лилий. Туда же клал цветки боярышника, зеленую, не поспевшую бруснику и волчьи ягоды со шляпками молодых мухоморов. Все заливал кипящим лосиным молоком. Остужал, настаивал две седмицы, затем смешивал забродившее месиво с какой-то красной травой с квадратными ягодками, которую называл заряйкой. А вот где он эту травку брал, что она такое, где растет, мужикам старец не сказывал, а сами они нигде ее не встречали.
– Ну и как, – спросил Алексашка, освежая царский золотой стаканчик березовой настойкой, – так и не узнали, где Налимов собирал эту самую миглощу?
– Все обыскали в тех краях, Александр Данилович. Государь даже награду сулил в сто рублев самому расторопному, да так никто не нашел бурую траву. Пробовали варить зелье с другими травами, да только опосля такого эликсира, черти, прости господи, перед глазами прыгали.
Петр выплеснул из миски на пол оставшуюся гнозию, налил туда водки.
– Чудно, – молвил царь, – неужто акромя тебя о той заряйке теперь никто не ведает?
Ерофей Захарович пожал плечами. Прямого ответа не дал, решил досказать сказку.
– После смерти боярина Завойского-Налимова, на том острове развелось несметное количество змей, его стали считать проклятым, прозвали Василисковым. Будто бы раз в год, в день своей гибели, отшельник ходит по местным деревням и душит пьяных мужиков.
Изрядно захмелев, Петр Алексеевич сначала рубанул рукой воздух, потом похлопал боярина по плечу.
– Доброе твое похмельное месиво, – сказал царь Петр, – если б ты еще рецепт того зелья знал, о каком сказывал, полковником бы тебя пожаловал. Сейчас бы нам тот эликсир зело пригодился. Шведов, да крымских татар пора воевать, а стрельцы и ночью не просыхают. Хотя, может, и прав был царь Иван, ежели все пить перестанут, с чего казну пополнять? Торговлю надо с голландцами да немцами развивать. Ух, дармоеды, всех вас на дыбе поломаю, доберусь, ждите. И тебя, Алексашка, повешу, потому как вор.
Меншиков хорошо знал и чувствовал своего хозяина, угроз не испугался, даже бровью не повел.
– Стрельцам, конечно, вино пить не запретишь, минхерц, – заговорил задумчиво Александр Данилович. – Коль им каждый днесь вина не отпускать, взбунтуются, чем им еще заняться? А вот зелье похмельное иметь было бы при себе вельми полезно. Что, ежели отправить кого-нибудь на тот змеиный остров, поискать травку красную, али ты все придумал с испугу, Ерофей Захарович?
Гроза царская миновала, это понял и Скоробоев, потому расправил плечи, осмелел, даже сделал вид, что обиделся:
– Что мне предок сказывал, то я вам и поведал. Травку, вестимо, поискать можно, Петр Алексеевич, почему бы и нет, да только много лет минуло. Тогда-то найти не смогли, а уж теперь ее и подавно не сыщешь.