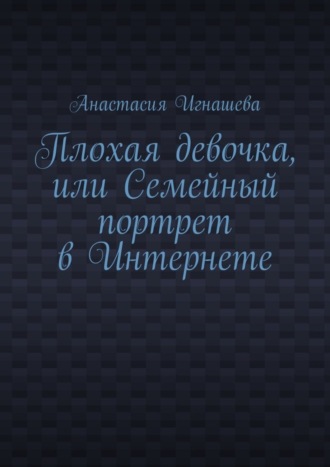
Полная версия
Плохая девочка, или Семейный портрет в Интернете
– Ты зачем лук принесла? – грозно вопрошала Алла Александровна.
– Потому, что я амазонка. – ответила я.
– Ты хулиганка, а не амазонка!
Закончилось всё тем, что меня, как обычно, поставили в угол. Как сказала воспитательница «до вечера». За общий стол мне тоже оказалось нельзя. Обед мне принесли прямо в угол. И раскладушку на время тихого часа туда поставили. Изолировали, короче, от общества. Но Ирка молча показывала мне большой палец. Байба и ей опротивела. Лук Алла Александровна спрятала в шкаф. Другим детям было запрещено со мной разговаривать, но Ирка всё равно подошла.
– Здорово ты Байбе в лоб попала! Так ей и надо.
Ирку за общение с «преступницей», то-есть – со мной, – тоже наказали. поставили в другой угол. А мне, чтоб я ни с кем не разговаривала, – завязали рот чужим шарфом. В таком виде меня и застал дедушка Рихард, пришедший за нами с братом вечером. Он пришёл в ужас и негодование от всего увиденного и закатил Александровне грандиозный скандал.
– А почему бы Вам было не запереть её в подвале?! – спросил дедушка.
К слову сказать – та имела бледный вид. Именно тогда дед и сказал слова, которых я раньше тоже никогда не слышала – «концлагерь» и «архипелаг ГУЛАГ». Дома он устроил скандал родителям. Причём с мамой он ругался по-немецки. Они с мамой вообще очень часто говорили по-немецки. И меня учили. «Тихую ночь» – немецкую рождественскую песню – я знала наизусть уже в три года. А в нашей семье и теперь празднуют Рождество дважды – по православному и по католическому календарю…
…Вообще же дедушка Рихард заметно выделял меня из всех своих внуков. Наверное, потому, что я была самая старшая, да ещё – девочка, единственная, среди многочисленных парней. У дедушки Рихарда с бабушкой Линой было трое детей – моя мама, дядя Сергей и тётя Оля, которую все звали «Тётя Оля из Москвы». У дяди Сергея тоже было трое детей – Максим, Герман и Лёша, а у тёти Оли – сын Костя. Дед в шутку называл мальчишек «футбольной командой». Про братьев я потом расскажу. Скажу только, что из всех наших родных самой бедной, непутёвой и неустроенной была наша семья.
Итак, в тот вечер дедушка ругался с мамой из-за меня. Он требовал забрать меня из этого жуткого места.
– Ну и куда я её дену? – спрашивала мама.
– В другой сад.
– Ха! Как будто – там есть место?!
– Тогда я буду сидеть с ней! Хочешь – увезу её в Ленинград?
– Но ей жить среди людей!
– Так значит – пусть привыкает к издевательствам?! Это чёрт знает что!
Дальше разговор пошёл тише и по-немецки. «Чтобы дети не слышали». Мама с дедушкой сами учили нас с братом немецкому, но когда ругались, то всегда забывали об этом и думали, что мы не понимаем, о чём они там говорят.
Вобщем – пару дней я в садик не ходила. К слову сказать – на дверях садика висела табличка на двух языках, русском и украинском: «Детский сад №6» – «Дiтячiй садок №6». В русской части вывески в слове «сад» буква «с» куда-то пропала, отчего надпись приобрела совсем иной смысл. И довольно правдивый, как я сейчас понимаю. Тогда я воспринимала всё как некую данность, с которой приходится мириться.
Я начала рассказывать, как Байба вдруг, совершенно неожиданно, лишилась своего могущества. И произошло это в тот день, когда я снова пришла в садик. Всё было как обычно. Мы с Иркой немного поиграли в амазонок. Перемену я заметила только за завтраком. Байба обычно ела за одним столом с воспитателями, но в тот день её за него не пустили. И она явно не понимала, в чём дело. И никто не понимал, но все чувствовали, что могуществу мерзкой девчонки пришёл конец. Она пошла искать себе место, но её никуда не пускали. Так она добралась до столика, где сидели мы – я, Ирка и Павлик. «Изгои общества», как нас Алла Александровна называла. Что это означало – мне было непонятно, но мне было плевать. Мы её тоже не пустили. Мы с Иркой расставили локти так, что места за столом не осталось. Байба, ещё недавно такая всесильная, готова была разреветься.
– Рёва-корова! – сказала я, – Рёва-корова, дай молока!
– Скольки стоит – два пьятака! – подхватила Ирка.
После вмешательства Аллы Александровны её кое-как усадили за наш столик. Мы с Иркой изо всех сил толкали её под бока, а потом Ирка схватила её ложку и зашвырнула в угол. И, к нашему удивлению, Алла Александровна сделала вид, что ничего не происходит. «Слова» к празднику у Байбы тоже отобрали и спешно раздали другим ребятам. Праздник должен был быть со дня на день. Достались «слова» и мне. После завтрака Алла Александровна дала мне бумажку со стихами.
– Покажи ей, где стоять надо. – велела она Ирке.
«Слова» мне достались на украинском, а я его не знала. К слову сказать, – за всё время нашего житья в Киеве я так и не выучилась говорить по-украински. Даже выговора южного не приобрела. Всегда говорила чётко и чисто «по-ленинградски». А из всего Киева запомнила только «Житный рынок», да памятник Богдану Хмельницкому, который приняла, из-за его сходства, за «Медный Всадник». И долго была убеждена в том, что в каждом городе мира обязательно должен быть свой «Медный Всадник». А украинский язык казался мне испорченным русским и очень смешил.
А тут мало того, что надо было стихотворение читать по-украински, так ещё маме нужно было сшить мне костюм «гуцулки», ибо стихи мне достались про «Зэлэни Карпати». Кто такие гуцулы я не знала, где находятся Карпаты – тем более, но – «надо – значит надо». Мне и в голову тогда не приходило, что я могу отказаться. Да и мама с детства старательно приучала нас с братцем к мысли, что есть такое слово «надо». Это потом уже я стала задумываться на тему «Оно мне надо?». А тогда мама с ног сбилась с этим костюмом. Они с иркиной матерью шили его до трёх часов ночи, но к празднику всё было готово. Самое интересное – что самого праздника я не помню. И куда потом этот костюм делся – тоже. Кажется, Александровна попросила маму оставить костюм в садике. Настолько поразил её мамин шедевр.
Байбы на празднике не было. Она исчезла из садика накануне.
Когда Александровна отобрала у неё «слова» и сказала, что она не будет участвовать в празднике, Байба убежала в туалет – плакать.
После репетиции мы с Иркой, как всегда, стали играть в амазонок. На этот раз мы взяли к себе в игру Павлика на роль пленного царя. Он и тому был рад. С Павликом не хотел играть никто и он время от времени прилеплялся к нам. Это был худенький, болезненно-некрасивый еврейский мальчик. От того, что у него были полипы в носу, рот у него был вечно приоткрыт, как у рыбы, вытащенной из воды. Из носу вечно текли зелёные сопли, а изо рта воняло. Его дразнили «соплёй» и «вонючкой». Вобщем, Павлик только и годился, что на роль пленного царя.
– Пленных амазонки сбрасывали со скалы! – вещала я, – Тебя тоже сбросим!
– А где будет скала? – спросила Ирка.
– На столе!
Вобщем, Павлик спрыгнул со стола, изображая бесславную смерть, и мы оставили его в покое.
Раньше Байба не проявляла интереса к нашим играм, или относилась к ним с великим презрением. Играла она только с избранными. Но теперь избранные её отвергли и она попробовала прилепиться к нам. Но мы с Иркой её выгнали, потому как нам она ухитрилась насолить больше всех.
– Я тоже хочу быть амазонкой, пожалуйста! – упрашивала она.
– Амазонки такие не бывают. – ответила Ирка, – Справди, Нелю?
– Да. У амазонок были длинные волосы. – авторитетно заявила я.
У нас с Иркой были косички, а Байба носила локоны до плеч, на которые ей цепляли огромный идиотский бант.
– И амазонки с бантами не ходят. – продолжала я.
– Да! – подхватила Ирка, – И ты в меня солдатика заграничного вкрала! И казала, шо это твой!
– А меня щипала всё время! – добавила я, – И ещё – подножки всё время ставила! И когда ты стекло в шкафу разбила – сказала, что это мы с Иркой!
– Я больше не буду. – сказала Байба.
– Врёшь! – не поверила я.
– Брешешь! – добавила Ирка.
– Я вам жуву дам. – не отставала Байба.
– Изо рта не хочу! Там слюни твои противные! – сказала я.
– Сама жувай пожуванную! – поддакнула Ирка.
– Я новую дам. С фантиком!
– Не хотим!
– Гэть звiдсiлля!
И Байба ушла несолоно хлебавши. Даже сопливый Павлик отказался с ней играть.
Самое смешное, что дома мне эту гадкую Байбу всё время в пример ставили: Байба такая, Байба сякая, хорошо кушает, тылы-мырлы, она лучше всех, словом. И я однажды не выдержала:
– Ну и живите, – говорю, – со своей гадкой Байбой! А я уйду!
И ушла. Но недалеко. Меня дедушка Николай отловил. Он в то время гостил у нас. И привёл домой. А мама мне лекцию прочла. Длинную. На тему, с кого я пример брать должна.
А Байба действительно «хорошо кушала». Что расстраивало мою маму. Она всегда считала, что главное, это чтоб дети хорошо кушали, хорошо учились и слушались маму и папу. А Байбе просто давали не то, что другим детям. Её сажали за один стол с воспитателями и она ела то, что готовили для них. А им варили отдельно. Лично я детсадовскую еду есть не могла. Особенно ненавидела тушёную капусту и «морковку». То, что это морковка – догадаться нельзя было и с 10 раз – грязно-бурая масса с мерзким запахом и ещё более мерзким вкусом. И вообще – кормили в детском саду отвратительно. Еда напоминала, как я сейчас понимаю, – тюремную баланду. Каша была вечно холодная и с комками, супы вечно пересоленные. Еду я оставляла почти нетронутой, чем вызывала дикую ярость Аллы Александровны. Она твердила, что я не выйду из-за стола, пока всё не съем. А я не могла это есть. И тогда она выбрала из группы пару мальчишек посильнее и велела им накормить меня насильно. Закончилось всё тем, что меня вырвало прямо в тарелку. Больше насильственное кормление не применялось.
Но в этот раз Байбу посадили не вместе с воспитателями, а с остальными детьми. В тот день опять была гадкая «морковка». И суп гороховый. По виду похожий на павликины сопли. Его я ненавидела ещё больше, чем морковку. Словом – мне светило остаться голодной до вечера. Ирка, глядя на меня, тоже есть отказалась.
– Байба, – говорю я, – съешь за меня? Я не хочу, а ты всё равно хорошо кушаешь.
– И за меня. – попросила Ирка.
И мы придвинули ей свои тарелки. Иногда за нас доедала Людка – та самая, что жевала пластилин и врала про Германию. Она вообще мела всё подряд, не разбираясь – вкусно-не вкусно. Вот и в этот раз она мигом утянула иркину тарелку с супом. И Байба с отвращением принялась давиться детсадовской пайкой. Уверена – такое не стали бы есть даже узники Бухенвальда, или Освенцима. А Александровна впервые похвалила нас с Иркой и поставила Байбе в пример, хотя прекрасно видела наши махинации с тарелками. Кстати, как впоследствии выяснилось – повариха наша детсадовская раньше работала вольнонаёмной в тюрьме и готовила для зэков. Ну-ну. А я тогда никак не могла понять – почему еда везде такая разная? Почему дома, в гостях, или, там, в ресторане – всё вкусно, а в садике, или в уличной столовке – есть невозможно? Потом всезнающая Ирка объяснила мне, что продукты просто воруют.
А в тот день Павлик принёс в садик машинку. Заграничную. Яркую. Красивую. Мы даже не ожидали, что у сопливого Павлика такие игрушки могут быть. И, конечно, все тут же захотели с ним играть, но Павлик сказал, что играть он будет только с нами – с Иркой и со мной. И мы премило играли до обеда. На этот раз не в амазонок. Я придумала новую игру – «в Директора». Директор и ездил на павликиной машинке. У нас это был напыщенный и глуповатый тип, который, тем не менее, водил машину сам, обходясь без шофёра. Ирка придумала, что шофёр от него сбежал.
– Ага! – согласилась я, – Директор был нахал и пьяница. И шофёров всех обзывал по-всякому.
После обеда, во время тихого часа, я никогда не спала и увидела, как Александровна потихоньку взяла машинку Павлика и сунула в шкафчик Байбы. Я не поняла, почему она это делает и промолчала. А после полдника, на который был кисель, похожий на сопли, и который я тоже пить отказалась, Павлик хватился своей машинки. Я хотела сказать Павлику, где его машинка, но Александровна прикрикнула на меня, после чего выстроила всех вдоль стенки и принялась обзывать ворами и пугать тюрьмой.
– Сейчас я позову дядю милиционера и он заберёт вора в тюрьму!
Я знала, где павликина машинка, но молчала – Александровну я боялась до икоты.
– Сейчас я буду искать в ваших шкафчиках! – объявила она и приступила к шмону. Начала она с моего. Вышвырнула всё на пол.
– Опять ты эти противные рейтузы надела! – крикнула она мне, – Забирай своё барахло и садись в угол!
Те, чьи шкафчики были обысканы, собирали разбросанные вещички, некоторые Александровна поддавала ногой, и садились в угол на лавочку. Это был тщательно разыгранный спектакль. Алла Александровна не сразу «нашла» машинку, которую «украли». Она сперва обыскала все шкафчики, с наслаждением ругая нас на все корки. Найденную машинку она торжественно подняла над головой.
– Чей это шкафчик?! – злорадно спросила она.
– Это не я! – закричала Байба.
– А кто?! Ты не только воровка! Ты ещё и врунья! Почему я это у тебя нашла?!
Я знала, что это не Байба, но молчала. Я знала, что ни в коем случае нельзя говорить правду. Иначе и со мной может случиться нечто ужасное. А Александровна приступила к экзекуции. Мы сложили наши вещи в шкафчики и встали в круг, в центре которого оказалась Байба, которую воспитательница держала за руку.
– Ты, Байба, – воровка и врунья! – торжественно объявила она, – Дети! Три-четыре! Во-ро-вка! Вру-нья!
И мы послушно кричали Байбе «воровка», «врунья» и «позор». У меня от ужаса всего происходящего язык во рту не ворочался и я только губами шевелила. На Байбу и всех остальных я боялась даже смотреть. После этого Байбу увели в раздевалку, посадили на лавочку, а всем остальным запретили к ней приближаться и разговаривать.
Через какое-то время я зачем-то забежала в раздевалку и увидела, что Байба лежит на лавочке очень бледная, белая совсем. Мне стало страшно – а вдруг она умерла?!
– Алла Александровна!!! Байба умерла! Она лежит и не дышит!!!
Вот тут Александровна перепугалась по-настоящему. И были врачи и «скорая»… Байбу уносили на носилках. Она не умерла. Просто в обморок упала.
Больше я Байбу не видела. Уволилась и Александровна.
Я давно поняла, что дети – это такие существа, которые никому, по большому счёту, не нужны. Позже, уже в школе, завуч, распекая наш класс за что-то сказала, что дети – это «заготовки взрослых» и «болванки, из которых мы должны выточить людей». И я видела, что нас терпят, но не любят. Взрослые могут над ребёнком сюсюкать и умиляться, но на самом деле – это не любовь. Особенно сильно нас ненавидела Алла Александровна. За малейшую провинность нас ставили в угол и лупили скакалкой. Я никогда не слышала, чтобы она нормально разговаривала – только кричала и ругалась. В садик я ходить ненавидела и боялась, но понимала, что с мамой спорить бесполезно и потому ходила. Это было такое же неизбежное зло, каким стала потом школа.
Меня Александровна ненавидела сильнее всех. Хотя – что мог ей сделать пятилетний ребёнок? Я, правда, уже тогда чувствовала, что я не такая, как все. Что слишком выделяюсь. Все в один голос твердили моей маме, что я – необыкновенный ребёнок. Наверное – родись я в нынешнее время, мои предки вняли бы голосу общественности и устроили бы меня в какое-нибудь заведение для особо талантливых и одарённых детей, где меня бы холили и лелеяли, но тогда были другие времена. Личности были не в почёте. Более того – это было просто чревато… Таких слов, я, понятное дело, не знала, но само отношение передавала очень точно: «Все злые и никакой свободы!» Свобода! Вот к чему я стремилась с детства! И я знала, что нам её не дают и не дают специально.
Детство моё было довольно серым и тоскливым. Наиболее сильным и оттого наиболее запомнившимся мне чувством была скука. Дни были серые и похожие один на другой. Вторым сильным чувством было ощущение непрекращающейся слежки. Нельзя было сделать ничего мало-мальски заметного, чтобы тебя тут же не одёрнули, не отругали и не сделали замечания.
Не кричи!
Не шуми!
Не бегай!
Не лезь!
Не трогай!
Не смей!
Сядь как следует!
Веди себя по-человечески!
Поднимай ноги!
Не сутулься!
НЕЛЬЗЯ!!!!!!!
Нельзя было всё. Или почти всё. Всё, что хочется. Всё, что можно – было обязательно. У моих родителей был довольно распространённый взгляд на воспитание – чем больше человека ругать и наказывать – тем более воспитанным и культурным он вырастет. И с этой точки зрения – мама уделяла нам с братцем Вовчиком очень много времени. Она читала нам длиннейшие нотации на тему какими должны быть «хорошие дети» и что вырастает из тех, кто маму не слушался. От её нравоучений мне делалось паршиво и хотелось свалить куда-нибудь подальше. Папик времени на нотации не тратил, а просто снимал ремень. Или отвешивал затрещины. Он вообще мало говорил. Больше лежал на диване с газетой, когда бывал дома. Или телевизор смотрел. Газета, диван и телевизор – были три священных предмета, к которым нам с братцем было запрещено прикасаться. Я никогда не видела, чтобы отец помогал матери – мыл посуду, или убирал в квартире, или ходил в магазин. Я знала, что другие мужчины это делают. Я знала, что Иркин папа мог починить всё, что угодно, что папа Павлика всегда сам ходил за покупками, что даже папа мерзкой Байбы что-то там мог сделать. А наш только газеты читал. Я знала, что есть на свете мужчины, которые умеют пилить, строгать, чинить водопроводные краны и газовые колонки, клеить обои, варить обед, даже вязать, шить и вышивать крестиком, носить сумки из магазина, удить рыбу, охотиться, играть в футбол, водить машину, строить дома, доставать дефицит, драться, наконец! Вот только где они водятся – я так и не знаю до сих пор. И мама моя не знает. Ибо в отцы нам с братцем она выбрала мужика «диванно-розыскной породы» – в смысле – разыскивает диван, чтоб на нём выспаться. А ещё военный называется. Танкист. Хотя всё время он сидел в штабе и танки видел только издали, по-моему.
После истории с Байбой Александровна уволилась, но легче мне от этого не стало. Вместо неё пришла совершенно жуткая толстая баба по имени Валерия Константиновна. От неё вечно воняло луком и чесноком. А я не могла выговорить её имя и за это была в первый же день оставлена без завтрака. Я должна была учиться его правильно выговаривать. С тех пор ненавижу имя Валерия и Валерий. Хотя дядю Валеру любила. Он, когда не по тюрьмам сидел, очень хорошо ко мне относился. Но про дядю Валеру потом как-нибудь расскажу. У мамы с ним были сложные отношения, как и со всей папиной роднёй. И от общения с дядей Валерой нас ограждали.
Помню, как однажды мама сказала папе:
– Опять его посадили.
На мой вопрос, кого именно и как это – посадили, мама довольно раздражённо ответила, что дядю Валеру в тюрьму. Тюрьма представлялась мне местом, вроде нашего детского сада, где все сидят на стульях вдоль стен, а вокруг ходят злые надзиратели, похожие на воспитательниц.
К счастью, мои мучения на этот раз были недолгими. Отец уезжал в Ленинград – учиться в Академии и взял меня с собой. Что такое Академия – я представляла себе довольно смутно. И была уверена, что это такое место, где учат на академиков. Каким образом всё это сочеталось со службой в армии – я тем более не представляла. Но была рада, что поеду с папой в Ленинград.
Была весна. Приближался День Победы. В нашей семье это был особенный праздник. Из-за дедушки Николая. Дедушкой Николаем я очень гордилась. Он был настоящий герой. В смысле – Герой Советского Союза. И на все праздники всегда надевал все свои награды и Золотую Звезду. Он был участник Парада Победы. Наград у него было столько, что кителя на груди не было видно.
– Дедушка! Ты – генерал! – говорила я ему.
– Всего лишь капитан! – смеялся в ответ дедушка Николай.
– Нет, генерал! Только у генералов столько наград бывает!
После чего я принималась рассматривать его награды. Все ордена-медали я знала наизусть, но всё равно спрашивала:
– А это что?
– Медаль «За отвагу». В 41-м под Ельней получил.
– А это?
– Медаль «Партизану Великой Отечественной» 1 и 2 степени.
Я знала наизусть все истории с ними связанные, но всё равно просила рассказать. Звезду Героя дед получил за взятие Варшавы.
А ведь был ещё и дедушка Рихард… Про своё прошлое он не распространялся. Это уже потом, когда мне исполнилось лет 12, он словно неохотно стал рассказывать о своей жизни. О родовом замке на юге Германии. О родителях. О войне. О войне особо. Его рассказы сильно отличались от того, что я слышала до этого. Это был взгляд с другой стороны. Из-за линии фронта. В рассказах дедушки Николая и всех «наших» – кого я привыкла таковыми считать – война была подвигом. В рассказах дедушки Рихарда она была полным дерьмом. Дедушка Рихард попал в плен летом 44-го в Бобруйском «котле». Какой-то русский выбил ему зубы рукоятью пистолета, хотя он и не сопротивлялся вовсе, а сразу «хэнде хох».
Про дедушку, впрочем, я догадалась ещё тогда – лет в 5—6.
– Значит – дедушка Рихард воевал против дедушки Коли? – спросила я.
– Да. – сказала мама, – Но никому об этом не говори. А то будут большие неприятности.
– У кого?
– И у тебя тоже.
Вот так. Про дедушку Николая было можно рассказывать, а про дедушку Рихарда нет. Да и вообще – про то, что делают и говорят дома нам с братом было строжайше запрещено рассказывать на улице. Мама всё время повторяла:
– Чтобы то, что говорят дома на улице никому не рассказывали!
От такого предупреждения делалось жутко и тоскливо. И возникало чувство, словно кто-то большой и злой, вроде воспитательницы Аллы Александровны, следит за нами, чтобы наказать. И вообще – чувство пришибленности и ощущения того, что за тобой кто-то следит, у меня в детстве часто возникало.
В Ленинграде меня снова ненадолго отдали в садик. Но это было уже совсем не то. Это был краткий миг счастья в моей тогдашней жизни. И звалось оно – Анастасия Петровна. Я узнала, что бывают добрые воспитатели. И что бывает свобода. Меня она особенно выделяла. Ей нравились мои фантазии.
– А Неличка нам будет рассказывать сказку. А вы все помогайте. – говорила Анастасия Петровна.
И я старалась! И это было наше любимое развлекалово! Увы! Своих «фантазий» тогдашних я не помню!
Это именно Анастасия Петровна привила мне любовь к сочинительству и рисованию. Она учила нас задавать вопросы и не бояться говорить то, что думаешь. Всё это изрядно попортило мне крови потом, но я ей благодарна. Ибо Анастасия Петровна растила нас свободными людьми. К сожалению – это было не долго. Однажды она пропала. Потом я узнала – рак. Сгорела в полгода. Но работала почти до последнего.
А вместо неё явилась какая-то очкастая грымза. Имени её я не помню. Да и не суть. Она была одна из многих, прошедшихся по моей жизни паровым катком. Впрочем – из садика меня вскоре забрали. После одного забавного случая.
Однажды грымза загадала нам загадку: «Висит груша – нельзя скушать». А я возьми да и ляпни, что это-де – Аграфена Степановна повесилась! Ведь Груша – уменьшительное от Аграфена. Вобщем – больше я в этот садик не ходила. И последние полгода провела в компании бабушек-дедушек.
Ещё одно моё детское воспоминание – Пасха. Именно там, в Киеве, я впервые узнала, что есть такой праздник. Наша семья была безбожной. Родители были ярыми коммунистами. Вернее – мама. Ну ей было в кого – одна тётя Пестелина чего стоила. А отец просто опасался кабы чего не вышло и не было бы неприятностей по службе. Посему Пасху в семье не праздновали. А так же Рождество и другие церковные праздники. Но Пасха мне запомнилась особенно остро. Многие дети приносили в садик куличи и крашеные яйца. Ирка, например. Она же с гордостью сообщила мне, что она «крещёная». Что это такое – я не знала, но это сделало Ирку в моих глазах какой-то особенной. Теперь я тоже крещёная. Абсолютно нормальное для русского человека состояние.
Пасха приходила весной. Всегда неожиданно. Она вдруг являлась из ниоткуда с букетиками вербы и в разноцветных яичных скорлупках, в запахе куличей. Необыкновенная, таинственная, запретная и от того ещё более прекрасная и привлекательная. Она была для меня чем-то недосягаемым. Прекрасное неизвестное одним словом. Однажды я спросила маму, почему мы не празднуем Пасху. И маменька разразилась в ответ длиннейшим монологом, что Пасха – это вредный и опасный праздник, который празднуют люди некультурные и невоспитанные, ибо остался он от царских времён, когда нехорошие люди – господа и бары, угнетали бедных рабочих и крестьян и заставляли их праздновать религиозные праздники. От её воспитательного монолога мне, как всегда, сделалось тоскливо и паршиво. И Пасха сделалась в моих глазах ещё более притягательной и желанной. Особенно заманчиво выглядели крашеные пасхальные яйца. Это было самое необыкновенное во всей пасхальной атрибутике. И как же мне хотелось, чтобы и у нас дома были крашенки! Мне казалось, что даже вкус у них особенный, не такой, как у обычных яиц. Однажды, мне было уже лет 10, я попросила у мамы разрешения покрасить яйца. Ну хоть одно яичко! ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ!!!!!!! Мама визжала и топала ногами. Она метала громы и молнии. Она кричала, что не потерпит поповства и мракобесия в своём доме! Лицо её побагровело и перекосилось, в глазах сверкал какой-то нечеловеческий блеск. И я вдруг ощутила такой ужас и безысходность, что готова была заплакать. Но не заплакала. На всю жизнь я запомнила эту сцену. А мама потом уже, когда я выросла и вспомнила про этот случай, сказала, что в тот момент у неё было ощущение, что это не она, а кто-то другой выкрикивал те слова. Кто-то словно заставлял её это делать. Вот и не верь после этого в нечистую силу!



