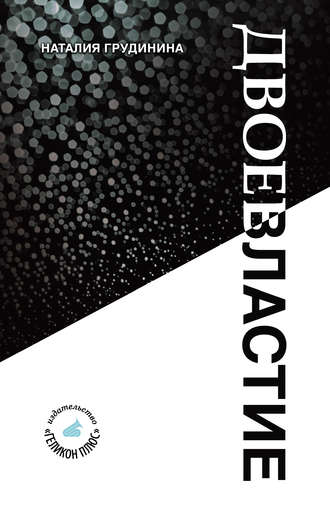
Полная версия
Двоевластие

Наталия Грудинина
Двоевластие
© Грудинина Н. (наследники), текст, 2015.
© «Геликон Плюс», макет, 2015.
* * *
Наталия Иосифовна Грудинина, 1937 г.
«Пригубь строку, осилившую смерть»
Читатель, я завидую тебе – ты впервые будешь читать эти гармоничные, так непохожие на произведения современных поэтов стихи. Они мудры и жизнелюбивы, по самому высокому, «гамбургскому счету» крепко сделаны. Классическая чеканка стиха, логичное и в то же время эмоциональное, порой экспрессивное развитие композиционного образа могут показаться тебе, читатель, чуть старомодными – сейчас в моде вязкая рефлективность, свободные неканонические формы, белые, т. е. безрифменные стихи – но именно этот суховатый, жестковатый, дисциплинированный точной рифмой и силлабо-тоническими размерами стих по-настоящему свободен – он так отточен, виртуозен, неожиданно афористичен в пуанте, что настоящий ценитель поэзии, читая сборник, не раз воскликнет: «Как же это увидено и сделано?!» И объяснить как – не сможет. Вечная непостижимая тайна истинного таланта:
Пристани выщербленный помост,Отсвет воды белесой,Сердце мое – не спасательный пост,Руки мои – не весла.Гонит прилив за волною волну,Мостик шатая хрупкий.Месяц ущербный прирос ко дну,Как затонувшая шлюпка.Просто, точно. Не отсюда ли, из этой литературной школы, песни Николая Рубцова – ученика поэтессы, с которой мы знакомимся?
Наталия Иосифовна Грудинина (26. 11. 1918 – 19. 12. 1999) родилась в Петрограде. С отличием окончила среднюю школу и без экзаменов поступила на английское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Стихи писала с шести лет. В молодые годы переводила из Байрона и Э. По. Переводы эти никогда не публиковала, полагая недостаточно совершенными для высокой классики. Впрочем, в 70-е годы Н. Грудинина выиграла конкурс на перевод нескольких стихотворений из «Еврейских мелодий» Байрона, но тут как назло случился арабо-израильский конфликт, и стихи были выкинуты из набора. Обычное проявление уродливой советской цензуры.
В начале войны пришлось досрочно сдать госэкзамены, в первую блокадную зиму Наталия Иосифовна работала в военном госпитале. Кроме общей большой беды ей довелось пережить две личные трагедии: гибель в бою под Синявиным первого мужа и смерть их четырехмесячного первенца. Весной 1942 года она добровольно ушла на фронт, окончила курсы медсестер и школу разведчиков. О войне писала позднее в своей неопубликованной автобиографии:
«Работала радисткой, медсестрой, потом попала на Балтику в бригаду шхерных кораблей – и это было для меня самым важным периодом моей военной жизни. Работала в нашей бригадной газете «Боевой курс». Участвовала в боях за острова Выборгского залива, потом – за остров Сааремаа. Писала очерки, корреспонденции, стихи. Под стихами подписывалась своей фамилией, под прозой – псевдонимами Шинко, Маркова. Главным образом – Шинко, чтобы не поняли, кто пишет – женщина или мужчина. На флоте живы были старинные традиции: женщин на корабли не пускать, может принести несчастье. Но первый же боевой мой эпизод на корабле – канлодке «Ока», стоявшей на боевой позиции – не принес морякам несчастья, хотя пробралась я туда тайком, ночью, в шлюпке, и чуть не была изгнана командиром корабля – мол, убирайся на сушу тем же путем, как сюда добралась. Потом сжалился, оставил, дал доделать работу корреспондента, написать о матросах-артиллеристах, их искусстве и храбрости. А потом уж традиция для меня была отменена. Ходила в бои и на кораблях поддержки, и на тендерах, высаживавших десант. Очень годились мне тогда мои медицинские познания, пусть небольшие. Умела перевязывать раны, останавливать кровотечения. <…> За операцию по взятию Сааремаа была награждена медалью «За боевые заслуги». Всю войну была краснофлотцем. И писала о краснофлотцах, и газета наша была краснофлотской. Наверное, для меня, интеллигентки, это было очень важно. Узнала думы рядовых людей – героев прославленных и безымянных еще в то время. После войны напоминала людям имена тех, кого не успели назвать газеты в войну. Называла эти имена всюду, где могла: в статьях, в радио- и телепередачах. А о жизни комсорга отряда тендеров Николая Гетманенко, о его подвиге и смерти написала поэму «Слово о комсорге»». Поэму напечатал журнал «Звезда», в 1948 году она вышла отдельной книгой, первой авторской книгой Н. И. Грудининой.
Война вошла в жизнь и поэзию Грудининой как мерило человеческих достоинств: правдивости, мужества, верности себе и поколению.
…Что ж, война есть война. Да и память о нейНе всегда укрощается пактами дружбы.Но с войны, как с горы, нам да будет виднейС кем и как выяснять отношения нужно.Это заключительные строки из стихотворения «Уважение». Оно не только о подвиге офицерской роты морской пехоты, зимой 1943 года сражавшейся с немцами и финнами за Карельский перешеек, но и о враге – беспощадном снайпере-кукушке, изрешеченном пулями, расстрелявшем все патроны, но не сдавшемся, ненавидимом, но заслужившем уважение противника. Такой же мудрый, но отнюдь не всепрощающий взгляд через десятилетия на итоги и уроки войны в стихах «Могила врага у Влтавы», «Берегитесь войны», «На экскурсии», «Баллада о немецкой матери», «Добрый вечер» и мн. др.
Еще одна военная тема, сильно и драматично раскрытая на страницах этой книги:
Другая – не отпетая – война,Что остается в грешном человекеПосевом добровечного зерна,Она болит, и плачет, и лучитсяВ кристаллах чистых совести самой,Неискаженно отражая лицаСолдат, не возвратившихся домой.Солдат, не возвратившийся домой, становится дневальным своего дома, невидимкой, его охраняющим, в стихотворении «Часовой» – тончайшей психологической зарисовке.
Такой же сложный рисунок в «Балладе о Весах», где небесное созвездие становится символом того единственного, высшего суда, кому только и дано когда-нибудь взвесить ложь и правду, истинную любовь и великодушие. Наталия Иосифовна ушла на войну молодой, поэтому так много в ее стихах о войне говорится о любви и поэтому в ее любовной лирике хоть бы и поздних лет неизменным фоном всему стоят неизжитые военные испытания и утраты.
Еще одна стилистическая особенность – поэт стремится избегать пафосности, даже когда пишет о событиях героических (поэма «Два боя») или о самой Победе. Для нее важнее точность деталей, которые своей неброскостью, будничностью, как бы просто перечислением создают интонационную напряженность ожидания величайшего события ХХ века:
В ночь на 9 мая 1945 года
Накануне конца той великой войныБыли вешние звезды видны – не видныЗа белёсою дымкою ночи.В полусне бормотал настороженный дом,И морзянкой стучала капель за окном:Вопросительный знак, многоточье…Ветер в трубах остылых по-птичьи звучал,Громыхал ледоход о щербатый причал,Пахло сыростью из подворотен,А луна, словно сталь, и темна и светла,По небесной параболе медленно шлаИ была, как снаряд на излете.После войны Грудинина работала на Ленинградском металлическом заводе техническим переводчиком, переводила документацию на станки, присылаемые по Ленд-Лизу, ездила на строящиеся ГЭС, занималась журналистикой. Продолжала писать стихи, посещала ЛИТО при Союзе писателей, которое тогда вел Вс. Рождественский.
В 1950 году была принята в Союз писателей, вышла ее вторая поэтическая книга «Дневник сердца» (1960 г.), а затем – третья «Посвящается молодости» (1970 г.). Обе книги – небольшие по объему. И после значительного перерыва, незадолго до смерти поэта, появился последний прижизненный сборник стихов и переводов – «Совесть» (1999 г.), изданный малым тиражом на средства Ямало-Ненецкого округа в благодарность за помощь в становлении многих поэтов Севера и Дальнего Востока. В предисловии к сборнику стихов «Совесть» Грудинина писала:
«Поэзия Севера ворвалась в мою жизнь неожиданно и властно. Раньше, как филолог-западник, я занималась переводами с европейских языков и языков некоторых наших национальных республик. Но эту работу заказывали мне издательства. Они любили ленинградских поэтов за добросовестность и культуру.
А вот северян никто мне не заказывал. Сама обнаружила этот драгоценный пласт поэзии, попав на конференцию литератур народов Севера и Дальнего Востока. И с тех пор северные поэты заняли в моей работе особое, ведущее место. Вы спросите, почему? Потрясла меня их совесть, искренность, открылась неведомая мне ранее культура древних веков Севера, мудрость традиций и мыслей.
С этих пор я стала отказываться от издательских заказов. На свой страх и риск стала переводить стихи, что присылали мне сами северные авторы. Потому что Север стал необходим моему сердцу».
Помимо множества стихов и поэм северных поэтов, вошедших в различные сборники, Н. Грудинина перевела две большие поэмы по мотивам древнего эпоса северных народов, вышедшие отдельными книгами: «Тер» Л. Лапцуя (пер. с ненецкого, М., 1984 г.) и «Человек Ыхмифа» В. Санги (пер. с нивхского, М., 1984 г.), а также вышедшую отдельным изданием детскую поэму Л. Лапцуя «Эдейка» (М., 1974 г.).
Настоящая книга, хотя и не абсолютно полное собрание стихотворений, но максимально приближена к такому типу изданий. Составителем был избран тематический принцип представления стихов. Он, конечно, произвольный, но и вынужденный. Дело в том, что Наталия Иосифовна, как правило, не датировала свои произведения, тем самым, вероятно, оставляя за собой право возвращаться к первоначальным текстам, править их, создавать новые редакции, что и происходило в действительности. Творческая жизнь поэта была продолжительной, и жаль, что читатель во многих случаях не имеет возможности соотнести стихи хотя бы с определенным десятилетием. Особенно это интересно в стихах публицистических, корреспондирующих с современностью, но там подчас встречаются определяющие датировку названные события или имена, как в блистательной эпиграмме, посвященной памяти академика А. Д. Сахарова:
О, это шараханье зала из крайности в крайность…Когда на трибуну восходит картавый чудак,Поймешь ли, правитель, что судит тебя гениальностьВ осмеянной скорби своих безоружных атак?!Наталия Грудинина – лирик. Глубокий, утонченный, в молодых стихах – дерзкий, в поздних, которые в силу внешних причин и личностных черт характера – «не хватало времени и нервов ходить по редакциям» – в основном писались «в стол», – мудрый, грустный, сомневающийся, но никогда не разуверившийся в своих идеалах лирик. Автор словно ведет бесконечный диалог с незримым собеседником: ушедшей юностью, наступающей старостью, собственной совестью, родной землей, другом, любимым, дочерью и, очень часто, учеником – ершистым молодым фрондёром:
Прости ты меня, супостат бородатый,Поборник штанов из вельвета,Что хлебом и солью всего и богата,Что в латаный ватник одета.И, если в 70-е годы поэт еще может иногда обрушиться на молодое поколение с тяжеловесных и суровых позиций человека слишком хорошо осознающего хрупкость мира (стихотворение «Торжество реакции»), то в поздних стихотворениях конца 80-х – начала 90-х годов интонация меняется кардинально. Не обвинять, не гневиться, а уступить молодости дорогу и подставить слабеющие, но все еще оберегающие руки:
Юнец колючий, дурно воспитанный,Горькой любви жнивьё,Войной и голодом не испытанный,Да святится имя твое.Теплишь в сердце моем встревоженномСторожевой огонь.Совесть моя, словно конь стреноженный,Хмурый бескрылый конь.Книга не монотонна – многожанрова. Удаются портреты, типы. Это особо привечаемые поэтом люди труда, своего любимого дела, для которого не жаль жизни, потому что дело и есть сама жизнь: «Голубое колесо», «Как спорил он с Лениным, кто бы послушал…», «На открытии Волжской ГЭС», «Колокольная бессонницы», «Женщине» и многие другие.
Пейзаж – обязательно очеловеченный, одухотворенный, исцеляющий:
Под темными шапками сосенЧервонных кустов монолит.Какая великая осеньНад этим поселком стоит <…>И если грустишь, позавидуйПрироде в багряном венце —Ни горькой вражды, ни обидыНа замкнутом этом лице.(Из стихотворения «На Псковщине»)Или два стихотворения с одним названием, две «Черемухи». Первое, «постоттепельное» (середина-конец 60-х гг.). Сколько в нем горечи, почти детской обиды:
…Ну зачем возвратились вы с вашей неправдой,Мерзлых луж искажающие зеркала <…>и сколько молодой, непоколебимой веры в будущее:
…Это все же весна – что бы там ни случилось,Это северный ветер в силках у ветвей,Это – солнце, что пасмурным снегом умылось,Направляясь в зенит по орбите своей.Другая «Черемуха» – «перестроечная» (80-е гг.). Короткое, тихое стихотворение, пейзаж «без героя». Нет здесь ни пафоса, ни веры, а только свет и отчаянная, на одной струне вибрирующая надежда:
…И не было еще весны,Был холод ниоткуда,Но этот цвет, как сталь струны,Звучал и жаждал чуда.Баллада – повествование о необычном, о чудесном, часто с трагическим концом, гибелью героя. Да, у поэта все так, сохранена верность литературной традиции, все законы жанра соблюдены. Но это – современные баллады: уже названные «Баллада о Весах», «Баллада о немецкой матери», «Баллада об эдельвейсе», может быть, написанные не без влияния поэзии молодых Горького и Тихонова.
Инвектива – гневное обличение: «Говорят, что приехал из Афганистана… (Яковлеву, приехавшему из Афганистана)», «На встрече ветеранов войны». А еще – рассказы в стихах, песни, поэмы, сказки для детей и взрослых. Много наработано за многотрудную жизнь, вот и пришла пора все собрать, подытожить.
Тревожная с середины ХХ века экологическая тема у Грудининой, как и у писателей, ее современников: Чингиза Айтматова, Валентина Распутина, Сергей Залыгина и др. – перерастает в тему нравственной и социальной экологии:
Поезжайте, ребята, в тундру,Там живется совсем не трудно,Там подростки-волчата рыщутВ честном поиске честной пищи,Там олень, никого не грабя,Добывает копытцем ягель,И песец скользит без машиныПо неясным следам мышиным.Поезжайте, ребята, в тундру.Там еще не везде паскудно.Но самые пронзительные строки – о любви, счастливой и трагической, они звучат от первой лирической книги – «Дневник сердца» до зенита творчества – последнего любовного цикла, обращенного к уже ушедшему из этого мира мужу, разлука с которым все равно невозможна, легче, даже сладостнее разлучиться с жизнью:
…Подарил мне свою милосердную смерть,Чтоб кричать мне от счастья, с ненужной землей расставаясь.Мир любви всеобъемлющ, она в стихах, адресованных близким, друзьям, поэтам, которых знала и стихи которых переводила, садам, лесам – Родине и населяющим ее «братьям нашим меньшим». В стихах цветут цветы, щебечут и смотрят умными глазами птицы, приходит в дом (во сне) желанный гость – медведь, но самый родной друг – так было и в жизни – пес. Щемящие стихи о собаках в книге собраны в невыделенный цикл, просто идут подряд: «Песенка про щенка», «Хозяин – ворюга. Но псу он дороже всего…», «Из родословной собаки А. И. Гитовича», «У самой границы, в отравленных травах…», «Жестокое белье казармы…», «Пропала собака, смышленая морда…». И как итог сложившихся гармоничных отношений:
Люблю животных больше, чем людей,Не потому, что от волнений кроюсь,Люблю, как безыскусственную совесть,Как милосердных и прямых судей.Без краснобайства и подспудной лжиПриемлют и закаты и восходы,И не погаснет – что ни прикажи! —На дне зрачков зеленый свет свободы.Странно, как в этом небольшом стихотворении на, казалось бы, «звериную» тему неожиданно преломились две важнейшие идеи, пронизывающие своим долгим, тревожным звучанием все творчество, да и всю жизнь поэта. Совесть и свобода – такой невесомый, но порой такой мучительный груз, одухотворяющий собой и любовь, и все человеческие труды.
Всем, знавшим Грудинину, хорошо был известен ее общественный темперамент, обостренное чувство справедливости, готовность встать на защиту преследуемых и обиженных. В суде над И. Бродским (1964 г.), обвиняемом в тунеядстве, она выступала общественным защитником, и в отношении ее, а также Е. Эткинда и В. Адмони было вынесено частное определение «об отсутствии у них идейной зоркости и партийной принципиальности». На этом основании Грудинина была отстранена от работы с молодыми литераторами. В своей борьбе за судьбу Бродского и судьбу своих друзей Наталия Иосифовна дошла до ЦК КПСС, ее записку получил и прочитал Хрущев, а после короткого письма Грудининой заведующему отделом административных органов ЦК КПСС Миронову и эмоционального телефонного разговора с ним же неповоротливый механизм советской партийно-бюрократической машины наконец-то дал задний ход. Дело было пересмотрено, срок высылки Бродского снижен с 5 лет до уже отбытых 1 года 5 месяцев, частное определение отменено. Незадолго до отъезда из страны Бродский подарил Грудининой оттиск публикации своих стихов с дарственной надписью: «Дорогой Наталье Иосифовне Грудининой от Иосифа Бродского, подзащитного, подопечного, от поэта и, кажется, от путешественника 27 V 72 г. Ленинград».
В 1975 г. Грудинина приложила много сил, чтобы изменить ход дела Эткинда, и тяжело переживала решение своего друга и соратника покинуть страну именно в тот момент, когда в его, не менее отвратительном, чем преследование Бродского, «деле», наметился позитивный сдвиг. Друзьям-эмигрантам, в их числе и Е. Г. Эдкинду, посвящено щемяще грустное стихотворение «Зажигается лампа ночная моя…».
Как пишет в своем биографическом очерке о матери (не опубликованном) дочь Грудининой Анна, «Наталия Иосифовна занималась восстановлением справедливости не только в писательских кругах, но и в медицине», и называет имена Качугина, Васильева – пропагандиста бальнеологической методики Залманова, вспоминает заступничество «за одного мурманского врача» и освобождение «одного незаконно осужденного псковского музыканта». Кстати, шуточное стихотворное поздравление «Наклепал на нас какой-то сатана…», адресованное академику А. И. Бергу, относится ко времени отнюдь не шуточной и весьма драматической борьбы Грудининой и ее друзей, врачей и писателей, за разработанный А. Т. Качугиным новаторский метод семикарбазид-кадмиевой терапии рака, который советские официальные онкологи объявили шарлатанством, но благополучно подхватили, развили и усовершенствовали их западные коллеги.
Всю жизнь Грудинина работала с литературной молодежью. Десять лет вела занятия со старшеклассниками в литературном клубе «Дерзание» при Ленинградском Дворце пионеров, руководила ЛИТО на заводе «Светлана», ЛИТО «Нарвская Застава», а в конце 60-х гг. – центральным ЛИТО при ЛО СП. Участвовала в составлении коллективных сборников молодых поэтов Ленинграда, была автором предисловий к книгам своих воспитанников. В первую очередь к ним, но и к каждому читателю тоже обращены слова поэта, звучащие сейчас как завещание:
Пусть автор мертв, но он заставил ЛетуРучьем пробиться сквозь земную твердь…Его вопросы ждут твоих ответов.Пригубь строку, осилившую смерть.Как-то в нашем разговоре уже последних лет Наталия Иосифовна вдруг спросила меня – что мне помнится из ее стихов? Я прочитала наизусть «Любовь – винтовая лестница…» (в первой редакции). Мне показалось, она была несколько разочарована и как-то отстраненно, словно не о себе, обронила: «Ну, это классика…». Справедливо. Все стихи, которые ждут тебя, читатель, – классика поколения, его идеалы, сомнения, бесценная для нас жизнь. Большая, мужественная жизнь. Высокая поэзия.
Татьяна ЦАРЬКОВАЗав. Рукописным отделом ИРЛИ РАН (Пушкинский дом),доктор наук, член союза писателей РоссииКолокольная бессонницы

«Еще в беду меня не бросила…»
Еще в беду меня не бросилаНичья холодная рука,А уж из красной рамы осениКо мне шагнули облака.Они всю комнату завьюжили,Предупреждая и грозя,Что скоро старость безоружнаяКо мне навяжется в друзья.И скажет: – Стань моей голубою,Не простужай моих костей,Не приноси из мира грубогоНеутешительных вестей.Уже лицо твое муарово,И привкус инея в стихах…Давай займемся мемуарамиОб извинительных грехах.Про то, как где-нибудь обиделиКого-то по ничьей вине,Про все, что видели-не видели,Безгласно стоя в стороне.Еще припомним умилительноЗаслуги большие в сто крат:Растили гласно и рачительноНе просто дерево, а сад.Короче – жизнь недаром прожитаИ – в свой черед награждена!Скажи мне, старость, кем ты прошенаИ кем к столу приглашена?Еще не столь вегетарьянственноЗдесь все на вкус ленивый твой,Еще бушует ветер странствияНад сумасбродной головой.Еще худая мебель выстоит —Чем старомодней – тем прямей.Здесь все кричит – от книг залистанныхДо грешной памяти моей.Не смей вязаться мне в союзники,Имей, горбатая, в виду —Еще пока деревья – узникиВ моем ухоженном саду.Еще бредут неотомщенныеСедые призраки в стихи,Еще не знаю, где – прощенные,А где – зудящие грехи.Я буду жить, пока не вызнаю,Кто завладеет вслед за мнойМоей мучительной отчизноюС ее раскаянной виной.И только в день и час доверия,С былым и будущим в ладу,Переломлюсь отжившим деревомВ неогороженном саду.«Слава тебе, охотничий нож…»
Слава тебе, охотничий нож,Детская прыть двустволки.В листьях хлопочет сентябрьский дождь,Солнечный и недолгий.Тучи – как яблоки на весу,День холодней и чище.Бродит поэт в брусничном лесу,Ищет духовной пищи.Где-то есть страны своих теплей,Дом там и стол готовый.Дай ему, Боже, твоих журавлейКрасноязычный говор.Дай ему с древа добра и злаГрешное яблоко славы.Дай! Чтоб завистливого стилаНе искушал лукавый.Пусть вольнодумно звучит струна,Зависть и страх осилив —Осень! Охота разрешенаВ светлых лесах России!Слава тебе, охотничий нож,Детская прыть двустволки…Слезы? Да полно! Сентябрьский дождь —Солнечный и недолгий!Настроение
С тех пор, как мир перешагнул порогиДозволенного сердцу и уму,Я, капля в море, я, одна из многих,Своих предначертаний не пойму.Не спрошенная сильными ни разу,Как рядовой в сумятице войны,Послушная непонятым приказам,Я, может быть, преступна без вины.Мне не ходить по самобытным тропам,Не вырваться из добровольных пут,Моя любовь лежит под микроскопом,Моя печаль выносится на суд.Ни лжи, ни правды на земле не вызнав,Болею и блаженствую на нейПодопытным животным оптимизма,Глашатаем подопытных идей.Но, может быть, с исходом поколеньяМоя усталость, боль и слепотаНайдут награду или искупление:Так строят просто дом в местах сражений,Где нет ни обелиска, ни креста.Другу
Несешь свой малый искренний талантБезропотно по тропке невезучей,Пока на смену не придет атлантНести эпоху на плечах могучих.Покорно переносишь немотуИ глухоту к своим земным надеждам,Притворно не рядишься в простоту,Не тратишься на модные одеждыЗато не доживешь ни до суда,Ни до закланья при честном народе —Померкнешь бескорыстно, как звезда,На непременном солнечном восходе.«Невесть откуда он пришел на землю…»
Невесть откуда он пришел на землю,Кудесник ли, волшебник или Бог.Глаголу неизученному внемля,Он отдал человеку все, что мог.Он умер потому, что отделилсяКорнями от магической звездыИ драгоценным разумом вселилсяВ людские немудрящие труды.Так, домыслы наук опережая,Рассеянная в прахе и в пыли,Метеорита химия чужаяСтановится сокровищем Земли.Христос – второе пришествие
Он получил в наследство дом,Который хоть на слом.Наследству бедному не рад,Вступил в заросший сад.Не плотник и не садовод,Растерянно бранясь,Он все ж трудился целый год,Убрал щепу и грязь.Неточно бухал молотком,Сбивая в кровь персты,И выкорчевывал с трудомБесплодные кусты.Сажал цветы и черенки,Насквозь в седьмом поту,Но вредоносные жукиТочили красоту.К тому же гром пустой гремел,А ливни всё не шли.Он слишком многого хотелОт медленной земли.Вот крыши крен подпер столбом,Полы настлал кой-как,И всё один, своим горбом,И всё один пока…И вот устал, и умер, иВознесся в небеса.Багряным отсветом зариВ саду цвела роса…Пришел другой в незрелый сад,В незавершенный дом,И был доволен, говорят,Тем начатым трудом.Пускай в нужде, да не в бедеПолы и потолки,И приживаются кой-гдеХристовы черенки.До счастья не подать рукой,Но и печаль не та…Дай Бог победы хоть такой,Как дом и сад Христа.Женщине
Убереги свой чистый домОт золотого дна.Ночной пчелой пусть дочка в немУснет, притомлена.Неслышной женскою рукойПротри стекло окна:Тысячелетняя, с клюкой,В твой сад пришла весна.Она вершит привычный труд,Светлы ее черты,И на клюке ее цветутБагровые цветы.Никто не в силах умереть,Когда работы воз…Не уставай и ты смотреть,Чтоб каждый бремя нес.Концы невидимы покаСвятых людских дорог.А деньги – что! От них рукаНе в свой отсохнет срок.Голубое колесо
Памяти конструктора турбиныКрасноярской ГЭСЛьва Николаевича ПетроваПривечали, провожали.Оттерпелись величанья,Отзвенели хрустали.К тихой даче с витражамиВ красно-желтом осияньеВетры ночью прибрели.По трубе, по тонкой жестиБарабанят дробью длинной.В бочке вспыхнула вода…– Отворяй, начальство, двери.Подставляй к столу корзину —Думы высыпать куда…– Заходи, товарищ Лева.Заждался тебя я, двериНе закрыты на засов.Будем вместе думать думы,Вместе верить ли, не веритьВ голубое колесо.А когда оно приснилось,Голубое, отразилосьВ красно-желтом витраже?Прикатил же черт такое!В красно-желтом непокоеДесять лет живем уже.Уработались до пота…За успех такой работыНикаких гарантий нет.Енисей тебе не бочка.Обхохочет нас, и точка, брат,Технический совет.Может дело выйти боком…По эскизу темным окомПоплутали, как в лесу.Обругали марку стали,Посчитали, покричали,Все бока ему намяли,Голубому колесу.Красный ветер в небе мчится,Тучи желтые качая,Красно-желтая жар-птицаБарабанит по трубе.– Завари покрепче чаю,Мне опять не по себе.Подкрепился, отдышался,Желтым профилем прижалсяК ветру красному в ночи.– Не гляди, начальство, хмуро.Уродилось сердце дурой —Вот такие калачи.Ты мне лоб рукой не трогай!Сердце выброшу дорогой,Думы дальше понесу.Отнесись, начальство, строгоК голубому колесу.Красно-желтый пламень сея,Провода Сибирью всеюПобегут туда-сюда!Без огня у ЕнисеяНекрасивая вода.В тихом зале неколонномКто-то лоб губами тронул,Кто-то молвил над бедой:– Был ты, Лева, обреченныйСдюжить груз тысячетонныйИ лежишь не окрещенныйЕнисейскою водой.Что ни слово – все не ново,Поздним светом светит слово,Провожая в путь неблизкий.Только дело не в словах:Колесо над обелискомГолубое в головах…Слышишь, ты, не плачь, начальство.Не дожить кому-то нужно,И дожить кому-то нужно,И зажечь кому-то нужноВоды темные в ночи.А, не в службу, брат, а в дружбу.Вот такие калачи.



