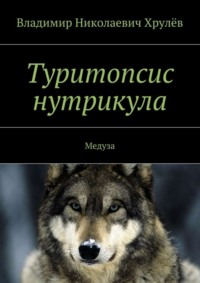Полная версия
Пентархия Генералиссимуса
Ещё держал в уме свою теорию «нового коммунизма», ещё готов был злорадствовать над прежними адептами в своих тайных и открытых сборищах под тонкий стакан водки и пирожок с ливером за 5 копеек, но в это самое время его отвратило внезапно религиозное настроение и это настроение привело его к бомжам – местным жителям землянок, тепловых трасс и брошенных разрушающихся домов. А это был уже его крах. И он осознавал это. Он больше не приходил в свою трёхкомнатную квартиру, где осталась его старшая сестра, а отец и мать были репрессированы ещё в 1937 году, будучи преподавателями энергетического института. И баба Люба, взрастившая его, оставалась нянькой за ним с сестрой, и навязанные им соседи оказались милыми людьми из рабочих. Все они по доброму относились к Арсению Петровичу, зная судьбу его родителей. Но это не остановило его и он ушёл бедствовать на волю, в отдалении от родственников и знакомых.
На воле его мечты даже расцвели пышным цветом. «Я славянин! – говорил он каждому, предваряя тем самым тему, о чём может говорить вообще. – И я радуюсь, что в жилах моих течёт славянская кровь. Это предназначение России – славянство. Этому племени принадлежит великая будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Россия – это такая страна как новая посуда из ГУМа, ещё не принявшая в себя запаха и вкуса незнакомой пищи, как лист белой бумаги, на которой можно написать всё, что угодно, как невспаханная земля – целина, которая ожидает пахоты и томится без обработки».
И у Арсения Петровича разыгралось воображение и с пьяной улыбкой на лице он продолжал: «Я верю, я призван судьбой быть русским Солоном, законодателем нового мира и порядка. Для этого мне нужно овладеть умом одного человека – Иосифа Виссарионовича Сталина и устремить его ко благу людей. А это больше, чем выиграть десяток сражений в Отечественной войне».
И Арсений Петрович почему то проникся любовью и уважением к Вождю вместо просто неуважения, а может ненависти за лишение его родительской любви и вообще за потерянное детство и юность, о чём он начал осознавать и потихоньку перекладывать ответственность за утрату родителей с Генриха Ягоды или Николая Ежова на Иосифа Виссарионовича Сталина. И он прекрасно знал, что умом Вождя ему не завладеть и по своей малоопытности и необученности ему было не понять фобий Вождя. А если, он ещё и не был знаком с ним и случаев знакомства не предвиделось, то влияние на Вождя, как его теория развития общества в «новый коммунизм», загнивала на корню. Ему оставалось только признать своё поражение. И он тихо признал себя не побеждённым, поскольку не боролся с врагами, а просто не победителем. Но вообще то, фигура Арсения Петровича, молодого алкоголика из людей без определённого места жительства, оставалось характерной и для его вновь обретённых людей. Среди них был, кстати, и племянник известного поэта Луговского. Вместе с ним, подверженные, как никак, теории коммунизма, они сочинили письмо, излагавшее учение коммунистов с их точки зрения, в частности, разделу подлежали не только материальные блага, но и свобода, которой пользуются одни с излишком, другие с недостатком и некоторые пребывают даже в рабстве. Это письмо, написанное сжато и энергично они направили в газету «Гудок», откуда ответа не последовало.
Но сама расхристанная жизнь Арсения Петровича, началась в собственной квартире, превращённой в коммуналку властью. после того как были арестованы и канули в Лету их родители, Арсения Петровича и его сестры Ирины, а на освободившуюся площадь были вселена рабочие текстильного комбината. В самом начале той жизни, если началом считать, появление новых жильцов, всю коммунальную жизнь возглавлял сам Арсений Петрович, слывший у сестры и няни просто Ариком. Но овладевая самостоятельно теорией «нового коммунизма», он и присвоил себе эту величественность себе – Арсений Петрович.
Весь тон коммунальной жизни задавал он, коммунист с «новым коммунистическим сознанием». В каком то смысле он был аскет, то есть мало ел, но всё более приобщался к выпивке, как к еде. Можно сказать, что он был вегетарианцем, если ограничить это понятие отказом от мясной пищи. Соли он так же не употреблял и не позволял употреблять сестре и няне, но зато был любитель сахара, считал что для мозговой деятельности сахар необходим людям всех возрастов и в любом количестве. Но сахара было мало и его квартирная коммуна однажды пополнилась спившимся вторым секретарём райкома партии, покинувшим семью Сашей Егоровым, примкнувшим к его коммуне из-за необходимости где то жить, хотя бы проводить ночь во сне. В качестве платы за проживание Саша Егоров делился с Арсением Петровичем выпивкой и сахарным песком. Но пришлось съехать из квартиры сестре Ирине – жить стало невыносимо среди спившегося и свихнувшегося люда. Бабе Любе бежать из квартиры было некуда. И она оставалась, безропотно исполняя все просьбы и повеления Арсения Петровича.
8
Непонятнее всего было то, что Лаврентий Павлович уверяет всякого, с кем заговорит на эту тему, что делает всё по приказанию Вождя. В глаза восхищается, а за спиной всякий раз, как произносят это имя, плюёт, приговаривая в сторону, что бы не услышали лишний раз и не донесли: «Полководец! Белобилетник, а не полководец! Что он себе воображает?»
А сегодня Вождь сказал ему непонятными словами нечто, над чем задуматься стоило:
– Весь мир исполнен горечи и страданий. Начиная с самого детства, с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость и спокойствие в душе. И не сомневаюсь, что жизнь готовит мне большие неприятности в будущем. Готов ли я к ним? Не знаю.
Сам Лаврентий Павлович уже с конца войны не сомневался в себе, что Вождь ему ненавистен и боялся это как – нибудь обнаружить прилюдно. И, конечно, для него не было секретом, что Вождь знает о его тайных отношениях к нему и, наверное, предпринял все меры обезопасить себя от столь близкого и неприятного существования. Но вот какие это меры, где их искать и как их обнаруженных дезавуировать, заставить Вождя отказаться от мер безопасности против него, преданнейшего цепного пса его жизни и здоровья, его дум и чаяний – было бы и ему спокойней. Ведь и Лаврентий Павлович знал прихоти и возможности, самые низкие, не только своей команды, но и самого Вождя. Они не смогли обойти его. Как они смогли бы обойти, когда все эти расстрельные списки, санкционированные ими, любимыми народом бонзами, находятся у него и не в сомнительных копиях, а в оригиналах за старательной подписью под приказом или под требованием «расстрелять» и чьи то рядом «согласен» и ещё рядом подписи, подписи, подписи согласных расстрелять, рядом с ними, что требовали или приказывали просто «расстрелять». Бывало у самого Лаврентия Павловича сердце сжималось от этих доказательств зверских преступлений, но и быстро отпускало. По мере привыкания дело становилось привычным. Да и сам к этому был немало причастен. Как то даже любопытство проявил, кто же у нас самый, самый из всех? И архивные дела ему свидетельствовали: Генрих Ягода причастен непосредственно к расстрелам 2347 человек. Менжинский – к 76159 человек, Дзержинский – всего лишь к 8291 человека. О, боже! Неужели я расстрелял 86051 человека? Это целый город мертвецов! Но вот каков мой предшественник Николай Ежов! Этот коротышка, этот сексуальный маньяк погубил 681692 человека с сентября 1936 по ноябрь 1938 года, за неполных два года и столько погубил душ! Боже праведный, отведи от меня мою вину. Ведь сколько их, бонз советских, согласились расстрелять этих людей! Взгляни, боже, вот их согласительные подписи: Молотов, Маленков, Шверник, Каганович, Хрущёв и даже Великий Вождь немало присутствует своей подписью. И даже, более чем удивительно, если всмотреться в эту благообразную рожу Михаила Калинина, то и он туда же – расстреливать согласен! Далеко не мало их согласились расстреливать десятками тысяч!
Было в России и другое время, не менее жестокое, но явное и ни от кого не скрываемое, когда Царь Иван Васильевич по иному властвовал. Царь начинал кипеть гневом ещё в юные годы, когда бояре изменяли ему, единственно добиваясь изменой достичь сладкой жизни, потом изменил ему славный воевода Андрей Курбский, сбежав от жестокостей царя в Литву.
Чудище это – зверь дикий и зловонный, множащий себя в злодействе человеческом, в изменах людских и подлостях, в пустословии избитых фраз, ломающий судьбы людские во мраке и тлении. А если что проявится непредвиденное промыслом божьим и просветлиться среди свинцовых туч, так это для того, что бы дать передохнуть измученному народу, и передохнувшего снова ввергнуть в пучину терпения и уныния. Когда и где он зародился в нашей земле – никто уже не упомнит.
Иван Васильевич трудно подошёл к окну из глубины комнаты, задёрнутым по случаю траура чёрными плотными шторами, и раздвинул их на обе стороны, впустив в темноту озарение – не просто божий свет, что высвечивал убого комнату свечами, а свет живого дня, отчего в комнате сделалось ещё более прискорбно и наглядно, ибо божий свет дня высветил за спиной высокое и широкое царское ложе, на котором лежал покойный человек – женщина под дорогой простынёй, прикрытая до самого кончика носа. То лежала Анастасия, первая жена Ивана, прихватив внезапную хворь и долго мучившуюся перед смертью.
России, пожалуй, никогда не везло с исторически удачными властителями на протяжённость такого периода, который был бы точно выбран для этой личности как единственно правильный и единственно принятый сложившимся на тот момент истории общественным мнением. Никогда! Властители всегда были как бы не ко двору или не ко времени. В них не совпадало сопряжение сторон, т.е. они не подходили друг другу, как не подходят друг другу шестерёнчатые колёса разницей диаметров или количеством нарезанных фрезой зубьев.
Мы не будем глубоко зарываться во времени веков. Начнём с Ивана Васильевича Грозного, в Царствование которого и забеременела Смутой Россия – с середины шестнадцатого века.
Более трёх лет Елена Глинская, супруга Великого Князя Государя Российского Василия Ивановича, вопреки желанию супруга и народа, не имела детей. Но пришло время и какой то юродивый объявил ей, что вскоре она родит мальчика широкого ума и наделённого двоякими качествами, оттого несущего собой добро и злодейство. И 25 августа 1530 года Царица родила «славного добром и злом в нашей истории» мальчика. Пишут современники народившегося Ивана, что в самую минуту нарождения земля и небо потряслись от неслыханных громовых раскатов и гадатели Великокняжеского Двора, вероятно, сумели дать объяснение такому неслыханному случаю в пользу новорождённого. И не только отец, Великий Князь, но и вся Москва и вся Россия по словам летописца были в восторге от народившегося наследника.
А через три года умер Царь Василий, а перед смертью тихо сказал Игумену Троицкому Иоасафу: «Отче! молись за Государство, за моего сына и за бедную мать его! Поручаю вам особенно: молитеcь о младенце Государе!». И Василий скончался, а сын его оставался готовится к своему Правлению на Руси.
Со смертью Василия в людские души российские засел страх, кто людям скажет что будет с Государством? Ведь никогда ещё Россия не оставалась без управления, если забыть о вековой давности. Никогда у неё на глазах не оставался столь юный Правитель с его ненавистной матерью ненавистного литовского рода. И она, Елена Глинская, не могла угодить народу в делах внешней политики да и явная её любовь к Князю Ивану Телепнёву – Оболенскому возбуждали к ней презрение. А коли так, то Бог увидел и услышал укоры людские – и Великая Княгиня юная летами, цветущая здоровьем вдруг скончалась 3 апреля 1538 года без видимых причин.
Внезапная смерть Елены предвещала движения новых фактических властителей Государства и они появились. И среди них первый Боярин Василий Васильевич Шуйский, потомок древних князей Суздальских. Сей властолюбивый Князь объявил себя главою правления уже в седьмой день кончины Елены и на глазах юного Ивана велел схватить его надзирательницу Боярыню Агриппину и её брата, любезного Царице, Князя Телепнёва – заковать в цепи и заключить в темницу, несмотря на слёзы и вопли беззащитного Ивана.
До семнадцати лет юный Царь жил перед постоянными сварами Бояр друг с другом, постоянными мелкими дворцовыми переворотами. А Шуйский властвовал и Россия знала его как убийцу Князя Бельского. Но слава Богу, Россия не долго терпела его тиранство. Князь умер в 1543 году. Но Шуйские оставались у власти – вместо одного к власти приблизились трое. Но, и тут, слава Богу, Иван начал чувствовать тяжесть Шуйских и приходить в смысл происходящего. Да и дядья Ивана, Князья Юрий и Михайло Васильевичи, внушали тринадцатилетнему племяннику, что для него настало время объявить себя Самодержцем и свергнуть хищников его власти. Многие бы поддержали Ивана, недовольные дерзким насилием Шуйских. Но и Иван был уже, как говорится, в теле и готов был ко многому. Он созвал первых лиц Государства Российского и твёрдо сказал им: «Уповая на милость божью и на святых заступников земли Русской, имею намерение жениться».
И тут же объявил им другое намерение: «ещё до своей женитьбы исполнить древний обряд предков и венчаться на Царство». И Окольничьи и Дьяки разъезжавшие по России в поисках невесты нашли для Государя юную Анастасию из Боярского рода Захарьиных. Но не знатность, а личные достоинства невесты оправдывали этот выбор Царя. И прервав свадебные пиры Царь с Царицей ходили пешком в Сергиеву Лавру и провели там первую неделю поста, ежедневно молясь у гроба Святого Сергия Радонежского.
Эта набожность Ивана, ни искренняя любовь к супруге не могли укротить его пылкой беспокойной души, его беспричинного гнева, приучения к шумной праздности его забав, что сделались во дворце грубостью и неблагочинием. Он любил быть Царём всегда, везде и для всех.
Великий пожар Москвы 1547 года озлобил его и он впервые увидел, что нет мудрости в правлении Государства и что нет той должной любви народной, которую он ждал и готов был поначалу питать её своими добрыми делами. И видя, что народ готов к мятежу и поневоле сделался орудием Глинских охотно удалился в село Воробьёво, как бы для того, что бы не видеть и не слышать народного отчаяния. На самом то деле он и его вельможи при нём боялись народного мятежа. В царствование своё Иван расширил Государство, пределы которого отдалились в Сибирь, а торговые пути лежали в Среднюю Азию. К намерениям Ивана относится его замысел обогатить Россию плодами искусств чужеземцев. Тогда, в том времени, впервые на театре Истории появились Донские Казаки, защитники России и её южных границ, признавшие Верховную власть России.
Но злодейства в судьбе Ивана Васильевича было столько, что не уместить его в судьбы наших иных правителей. Не вдруг, конечно рассвирепела душа, некогда благолюбивая, успехи добра и зла постепенны и поочерёдны, но как проникнуть в сердцевину души, что бы увидеть в ней борение совести с мятежной страстью; и никто не увидел, и никто не понял причины столь жестокого тиранства, когда подозрение вызывало лишение собственности, ссылку, оковы и темницы и даже очень часто смерть. Разве могли увидеть в Иване Васильевиче Царя доброго и справедливого жители Пскова, Твери, Великого Новгорода, большинство которых было уничтожено по доносам клеветников и завистников. И гибли то люди по доносу, за нескромное слово или по пустому подозрению в измене Москве.
И Москва цепенела в страхе. Людей давили, топили, сжигали, а Царь свирепел, его кровопийство не могло утолить жажды крови необъяснимой для незамутненного ума. И не находится исправления для тирана и мучителя. И не найдётся, как ни ищи в суде человеческом и тем более в суде Божьем. А из тех времен, помещённый в наши дни наш Властитель был бы, конечно, помещён в психиатрическую клинику, но, скорее всего, его постигла бы участь Пол Пота. Но это как мерзко даже вглядываться сей час из наших покосившихся окон в домах барачного типа. Но это совершенно другой уровень типа общественно – государственных отношений. И я решаю – не мешать жить Ивану Васильевичу в своей исторической эпохе, как в разнообразии монархии. Ведь и в нашей эпохе найдутся злодеи не менее жестокие.
А меня интересуют изменники, которых было немало на Руси. Что их подвигло на измену Отечеству? Как ответить на это? Ужас, наведённый жестокостями Царя на всех Россиян, привёл к бегству многих из них в чужие края. Среди них были Князь Дмитрий Вишневецкий, знатные сановники Ивана Васильевича Алексей и Гаврила Черкасские. Бегство в чужие земли не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественных законов бежать от мучителя, но горе падёт на гражданина, который мстит Отечеству, путая тирана с Отечеством! Так молодой Воевода, ещё в юных своих годах ознаменовал себя славными ранами в битвах за Царя и Отечество, не разделяя их, под Тулой, под Казанью, в степях Башкирии и на полях Ливонии, некогда любимец Ивана, но Царь не взлюбил его и вписал в свой чёрный список Государственных преступников. Это был Князь Андрей Курбский. Он решился на бегство, зная свою судьбу и решительно, не боясь смерти за задуманное спросил у своей жены, желает ли она видеть его мёртвым или расстаться с ним живым навеки? Жена ответила, что жизнь мужа драгоценнее её собственной жизни. И Курбский бежал из России Царя Ивана Васильевича в Литву, где принял его Воевода короля Сигизмунда.
В порыве своих чувств он написал письмо к русскому Царю, а верный ему слуга взялся доставить письмо и сдержал своё слово. Подал запечатанную бумагу Царю на Красном крыльце в Кремле со словами: «От господина моего, твоего изгнанника, Князя Андрея Михайловича». Царь в гневе ударил его в ногу острым жезлом, кровь брызнула из раны. Гонец Курбского молчал. Тогда Царь велел ему читать письмо. И тот начал читать.
«Царю некогда светлому, от Бога прославленному – ныне же, по грехам нашим, омрачённому адскою злобою в сердце, прокажённому в совести, тирану беспримерному между самыми недурными владыками земли. Внимай! В смятении горечи сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты сильных во Израиле, вождей знаменитых, данных тебе Вседержателем, и Святую, победоносную кровь их приял во храмах Божьих? Разве они не пылали усердием к Царю и Отечеству, Вымышляя клевету, ты верных называешь изменниками, Христиан чародеями, свет тьмою и сладкое горьким! Чем прогневали тебя они предстатели Отечества? Не ими ли разорены Батыевы Царства, где предки наши томились в тяжёлой неволе? Не ими ли взяты твердыни Германские в честь твоего имени? И что же воздаёшь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога в правосудии Вышнего для Царя? Не описываю всего, претерпенного мною от твоей жестокости: ещё душа моя в смятении; скажу единое: ты лишил меня святые Руси. Кровь моя за тебя излиянная вопит к Богу. Он видит сердца. Я искал вины своей, в делах и в тайных промышлениях; вопрошал совесть, внимал ответам её и не ведаю греха моего перед тобой. Я водил полки твои и никогда не обращал хребта их к неприятелю: слава моя была твоею. Не год, не два служил тебе, но много лет, в трудах и в подвигах воинских, терпя нужду и болезни, не видя матери, не зная супруги, далеко от милого Отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: Богу всё известно. Ему поручаю себя в надежде на заступление Святых и праотца моего, Князя Фёдора Ярославского. Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дня Суда Страшного. Но слёзы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мёртвых: убитые тобою живы для Всевышнего; они у престола Его, требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, Бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые приносят тебе детей своих в жертву!
Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю вложить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области Короля Смгизмунда, Государя моего, от коего с Божьей помощью надеюсь милостей и жду утешения в скорбях».
Иван выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, он должен был узнать все обстоятельства побега и оставшиеся связи Курбского в Москве. Вручитель письма по имени Василий Шибанов не рассказал Царю ничего, в ужасных муках нахваливал своего господина и радовался мыслью, что за него умирает. Такая твёрдость изумили Ивана и в укор Курбскому говорит об этом в ответном письме.
«Во имя Бога всемогущего, Того, Кем живём и движемся, Кем Цари Царствуют и Сильные глаголют, смиренный Христианский обет бывшему Российскому Боярину, нашему советнику и Воеводе, Князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотевшему быть Ярославским владыкой.
Почто, несчастный, губишь свою душу изменой, спасая бренное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего не захотел умереть от меня, строптивого владыки и наследовать венец Мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень: блажен, кто смертью приобретает душевное спасение! Устыдился раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие перед Царём и народом, дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты. от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих, ибо они клялись великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твоё писание. Яд аспида в устах изменника.: слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы к врагу нашему, если бы мы не излишне миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко, и с любовью, а жаловал примерно. Ты в юных летах был Воеводою и советником Царским; имел все почести и богатство. Вспомни отца своего: он служил в Боярах у Князя Михаила Кубенского! Хвалишься пролитием крови своей в битвах: но ты единственно платил долг Отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда Хан бежал из Тулы, вы пировали на обеде у Князя Григория Тёмкина и дали неприятелю время уйти восвояси. Вы были под Невелем с 15000 и не умели разбить четырёх тысяч литовцев, говоришь о Царствах Батыевых, буд то бы вами покорённых: разумеешь Казанское (ибо милость твоя не видала Астрахани)? Но чего нам стоило вести вас к победе? ….
Когда Бог даровал нам город, что вы делали? Грабили! Горе дому, коим владеет жена, Горе Царству, коим владеют многие! Византия пала, когда Цари начали слушаться Эпархов, Синклитов и Попов. Бесстыдная ложь, что говоришь о наших жестокостях! Не губим Сильных, Сильные служат нам. Казним одних изменников – и где же щадят их? А предок ваш,, святой Князь Фёдор Ростиславич, сколько убил Христиан в Смоленске? И что такое представители Отечества? Святые ли, боги ли, как Апполоны, Юпитеры? Доселе владетели Российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчёта. Так и будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости Божьей, Пречистой Девы Марии и Святых Угодников, наставления человеческого не требую. Хвала Всевышнему: Россия благоденствует, Бояре мои живут в любви и согласии, одни друзья, советники ваши, ещё во тьме коварствуют, Угрожаешь мне судом Христовым на том свете, а разве в этом мире нет власти Божьей? Вы думаете, что Господь Царствует только на небесах, Дьявол в Аде, на земле же властвуют люди. Нет, нет, везде Держава Господня и в этой и в будущей жизни. Ты пишешь, что я не увижу лица Эфиопского, так какое же горе мне! Какое бедствие мне! А сам Престол Всевышнего окружаешь убиенными мною: вот новая ересь! Так положи свою грамоту в могилу с собою: этим докажешь, что и последняя искра Христианская умирает с любовью, с прощением, а не с злобой. К завершению измены называешь Ливонский город Вольмар областью Короля Сигизмунда и надеешься от него получить милости, оставив своего законного, Богом данного Властителя. Ты избрал себе Государя лучшего. Великий Король твой есть раб рабов, удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю, Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно. Писано в Царствующем городе Москве, лета мироздания 7072 (1564) Июля в 5 день».
Это письмо Царя Курбскому довлеет над смелыми презрительными к тирану словами – так и должно быть, кажется, если тиранство отравило суть России и не могло позволить появиться ничему более наряду с собой – только изменам и преступлениям.
А переписка не закончилась, она продолжалась и стала казаться обоим, тирану и изменнику, и оправданием друг перед другом и обвинением друг друга. Но Царь считает, что он прав, потому что – Царь. Это проступает не сразу, его правота в споре двоих, большим количеством аргументов – свидетельствами историческими, богословскими толкованиями и грубыми насмешками, что хоть и недостойно, но в те времена было вполне доказательно. Но Курбский вполне Герой поначалу, другого он не заслужил, когда прямо в глаза, хоть и на расстоянии, нашёл в себе силы назвать тирана тираном; впрочем мне и в голову не могло придти найти в его поступке что нибудь похожее на робость перед Царём – тираном. В отношениях этих двух людей, конечно, более интересен Курбский, потому что в храбрости перед злодеем он видит верх человеческих достоинств, которые на него и одеты как одежда – это он такой в характере. А Царь тем и характерен, что он Царь, тем более, что этот Царь – Иван Васильевич.