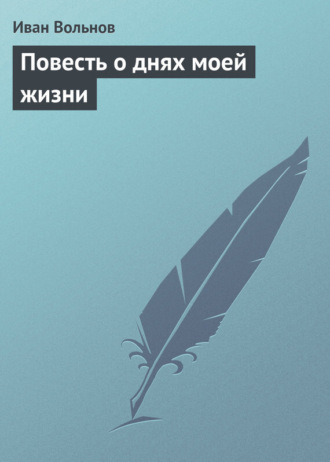 полная версия
полная версияПовесть о днях моей жизни
– Что вы! Бож-же сохрани!.. Ни за какие тыщи!.. – испугался Лопатин. – Я вам верю!.. Я – чтоб крепче было!.. Простите меня.
Когда дело уладилось, я спросил:
– Расскажите, пожалуйста, что за фальшивые бумаги ходят по народу?
– Таких бумаг нет, – сказал мне второй парень, постарше. Он все время молчал, приглядываясь к нам через очки. – Это выдумка.
– Чья?
– Н-не знаю… Может быть, сами же мужики выдумали.
Поднявшись с постели, на которой он сидел, парень вышел из комнаты.
– Сурьезный, – подмигнул Лопатин.
– Да, фальшивых бумаг нет, – подхватила барышня, – есть дурные газеты…
– Газеты нам ни к чему… Газет мы можем у мальчишек накупить… Нам надобны бумаги…
Очкастый – Дмитрий, войдя в комнату, подал нам два продолговатых листика, говоря:
– Вот прочитайте: сами увидите…
Усевшись в углу в другой комнате, мы просмотрели с Ильей Микитичем данные бумаги. С первых же строк у нас захватило дух от смелых слов. Каждому хотелось первому прочесть листки, мы вырывали их друг у друга; Лопатин разгорелся, ноздри у него раздувались, как у лошади, стал заикаться, трясти козлиной бородой…
Выйдя к студентам, мы сказали:
– Фитки – настоящие… Спасибо, дай вам, господи, здоровья!..
Илья Микитич обхватил барышню за голову, целуя ее в стриженую макушку, лезет целоваться к студентам. Те целуются, не брезгуют.
– Давайте таких бумаг много! – заявил Лопатин. – На всю губернию!..
– Есть еще лучше, – ответила барышня. – Вам, товарищ, понравились? – обратилась она ко мне.
– Да, – смущенно сказал я.
Награждая нас листками, она предупредила, что, если мы попадемся с ними полиции, нас посадят в тюрьму, будут судить, хлопот не оберешься. О тройном расстреле, про который говорил нам Осип, умолчала.
– Не боитесь?
– Боимся, барышня, как не боимся! Один черт тюрьме рад… Что же делать?.. Будем действовать насколько осторожно…
Парни научили прятать листки под рубашкой – на голом теле.
– Если будет надобность, снова приезжайте.
Илья Микитич, усмехаясь, говорил им:
– Теперь будем вас сильно тревожить. Рады не рады, а не открутитесь. Будьте здоровехоньки, соколики!..
– Что-о? – опять тревожно встретил Галкин. – И нынче один адрец привезли?
Микитич перебил:
– Пошто человека вводишь в грусть?
Попросив Настюшку отвернуться, мы вытащили целый ворох листков и книжек.
– Беги за народом! – завопил Галкин, увидя связки. – Собирай всех подряд: Колоухого, Лексана Богача, еще собирай Петю-шахтера, Рылова… Бумаги, мол, получены…
– А не лучше сначала самим разобрать? – предложил я. – Узнаем, что привезли, тогда соберем. Времени хватит.
– Лучше, – сказала Настя.
Даже старуха вставила слово:
– Чего ты, шустрый, сразу! Надо толком… Потише-то будто пригляднее выйдет.
Подойдя к столу, она стала щупать корявыми пальцами тоненькие книжечки в цветных обложках, открывала их, внимательно разглядывая, крутила седой головой в замызганном повойнике.
– Вы, робятушки, не бросайте, которые негодные, отдайте мне стены облепить.
Мы покатились со смеху.
Вчетвером – Лопатин, Прохор, Настя, я – мы читали без перерыва весь вечер и всю ночь. Галкин, слушая, выл, стучал по лавке костылями, приговаривал:
– Все – истинная правда!.. Все, как в аптеке!..
Настюня слушала молча, а Лопатин счастливо улыбался, изредка вставляя:
– Вот утэти вот слова похожи на Исаю: «Народ мой…» Хороший, видать, составитель, дай ему, господи, здоровья!.. А утэто вот – будто Амос-пророк писал: «Слушайте, вы!.. Придут и на вас дни!..»
Старуха сначала тоже прислушивалась, вздыхала, хлипала, потом отошла к печке, прикурнула на шестке и захрапела, разинув рот.
– Что ж ты, мать, уснула? – обидчиво окликнул ее Прохор.
– А?.. А?.. Что ты, сынок?..
– Уснула, мол, чего? Разве можно от таких слов спать?
– Умаялась я за день, миленький… Спину ломит.
Солдат с досадою махнул рукой.
– Прямо до ужасти удивительно! – с искренним изумлением воскликнул он, указывая на старуху. – Считается: люди, а? Ну, что тут скажешь?
Он посидел, помолчал, задумался. Встрепенувшись, опять сердито посмотрел на шесток:
– Мать, да встань же, ради создателя, чего ты меня из себя выводишь?.. Ма-ать!.. Слушай!.. Это я не тебе говорю?.. А?.. Ну, крест господний, велю стащить за ноги!.. Ну, крест господний! Мать, да неужто мне с тобой баталиться?..
– Ах ты, бож-же милостивый, – заохала старуха. – Что ты от меня желаешь?.. Пристал и пристал недуром!.. Ну, что тебе?.. Глядеться в меня?..
– Садись к столу слушать писание.
– Да оно мне не надобно, твое писание!.. Разве я смыслю?
– Сиди смирно, слушай.
Жмурясь от света, старуха покорно села на лавку. Склонив на руки голову, таращила некоторое время больные, выплаканные глаза и снова уснула сидя.
Настя увела ее, как маленькую, на лежанку, прикрыла дерюгой, под голову бросила подушку.
Занималась заря. Пропели третьи петухи. Стала трещать и меркнуть выгоревшая лампа. Посерели, осунулись лица…
XIIIНа второй день было собрание. Внимательно выслушав наше донесение о второй поездке, мужики пожелали посмотреть привезенное добро своими глазами.
Как и старуха, сперва ощупали книжечки, перелистали, осмотрели обложки и заглавия, подивились красным печатям:
– Все в порядке… печати… полная форма!..
Три дня читали. Малограмотные и которые совсем не умели читать приходили ко мне с Галкиным, другие разбирались сами.
Шахтер рычал, читая книжки, выгнал всех домашних из избы, побил ни за что мокровыселскую дурочку нищую Наталью Ивановну Рассохину, в мелкие клочки изорвал на себе новую сатиновую рубаху. В тот же вечер повалил у попа ограду, в колодец бросил дохлую собаку.
Вздумал я прочитать листик отцу. Он внимательно выслушал, в упор поглядел мне в глаза.
– Что ж ты молчишь? – спросил я. – Скажешь: тут неправда?
– Н-не знаю. Есть еще?
– Есть.
– Прочитай.
Я прочитал ему еще несколько листков.
– Ну, как?
Отец задумался, нахмурив брови.
– Где ты их берешь?
– Это тебе все равно! Говори: верно написано?
– Глупости, – сказал он, – какой-нибудь дурак писал.
– Что ты сказал? – вскричал я. – Вырази еще раз!
Отец с удивлением обернулся.
– Такой же, мол, дурак, как ты, писал!.. За это можно пострадать, понял, откуда звон?.. Советую, брось… С жиру им, сволочам, нечего делать, вот и строят чертову склыку! – с бешенством крикнул он, хлопая дверью.
Поздно вечером, отложив и спрятав то, что нам самим было надобно, мы разбросали прокламации и книжки по деревням. Клали на крыльца, завалинки, просовывали через трещины в сени, прилепляли жеваным хлебом на заборах, воротах, перекрестных столбах, церковной паперти, на дверях волостного правления. Одну Рылов ухитрился приладить уряднику на окно. Утром ждали с нетерпением, что будет.
Большинство мужиков, прочитав прокламации, сейчас же жгли их, некоторые отнесли в волость, более услужливые – уряднику, который, никогда не видев прокламаций и не зная вообще об их существовании, принимал листки неохотно.
– На кой они мне черт? Мне бы узнать, какой сукин сын у меня окошко выдавил… Я бы ему показал Москву с колоколами!
К обеду по деревне пошли слухи, что в Осташкове приехали «стюденты» с подметными письмами: будут наводить новые порядки. Первым делом расстригут попа, а на его место поставят своего, потом перепись: у кого сколько скотины, хлеба. Лишнее заберут, а что надо – оставят на пропитание.
– Сообрази-ка: восемь сотен! – таинственно шептала мне соседка, прибежавшая к нам поделиться новостью. – Во-семь сотен!.. Этакая махина!..
– Неужто, Аксинья, восемь сотен? – с ужасом спрашивал я.
– Восемь со-тен!.. Прям, как стадо ходят, ажио жутко!
– Где же они живут?
– А я уж и сама не знаю, – разводила она руками, – по овинам, поди, в ометах, в старых ригах…
Слухи о студентах испугали урядника. Захватив листки, он поскакал в город и возвратился оттуда с приставом. В Осташкове начался переполох. По улице забегали простоволосые бабы; завизжали дети, старухи забивались в погреба. Человек двенадцать потащили на допрос. Они отвечали, что «письма» подбрасывают студенты.
– Какие студенты?
– Бог их знает, трудно углядеть: все до одного оборотни!
Наш успех был невелик, но мы все-таки были довольны и тем, что люди заговорили. Сойдутся ли, бывало, у колодца, или на крыльце где-нибудь, сторожко оглянутся, спросят о скотине, цене на хлеб, еще о чем-нибудь, потопчутся и таинственно зашепчут:
– Читал?
– Чего?
– А «это»?
– Как же, в одну завалященькую поглядел.
Начнут рассуждать: отчего, почему?..
Трофим Бычок, мужик с похабным прозвищем, прочитавший несколько раз библию, пустил было слух, что в городе Вязьме, – а какой это губернии, он не знал, – родился от блудливой девки Макриды антихрист, который «почал орудовать». Но оттого, что он не мог сказать, какой Вязьма губернии, ему не поверили и к похабному прозвищу приклепали новое: «Блудливая ведомость».
Когда волнение улеглось и становой уехал, мы повторили посев.
– Ого! – говорили на следующий день. – «Они», змеи, настойчивы! Чево-ка нынче накакрячили?..
– В Захаровке-то тоже! – кричал, стоя средь улицы, дядя Левон Кила-с-горшок, бывший сотский. – Сейчас зять у меня был: словно, бат, их черт ломает – по всей улице метелью!.. Народ-то, бат, аж диву дался!.. Бросили работы!..
– Ведь не в одной Захаровне, – отвечал ему с гумна Прокоп Ленивцев, – по всей округе прет!
– Что, робятушки, ангили с небушка сеять золотом на наши деревянные головы!.. – кричал во все горло Прохор, выползши на середину дороги, – Что за слова, убей меня бог, ентаревые!.. И ни на макову росинку хвалыни!.. Читайте, православные, набирайтесь ума-разума!..
В полдень его вызвал урядник: он теперь уже уразумел, что за листки летают по Осташкову.
– Ты это чего надумал, хромой дьявол?
– Про что вы рассуждаете, Данил Акимыч?
– Говорят: ты письма разбрасываешь!
Прохор, насколько мог, вылупил глаза, притворившись овцой.
– Данил Акимыч, ягодка, скажите мне, Христа ради, кто это мутит: я пойду ему в бесстыжие бельма наплюю!.. Не таите, сделайте милость!..
– Не могу сказать, лучше не спрашивай, – крутил головой урядник: – «Читай, православные!» Раз заставляешь читать, ты и подбросил… А за это – Сибирь!..
Тогда Галкин показал на костыли, печально говоря:
– Я ведь, Данил Акимыч, без ног: мне несподручно…
Урядник поглядел на его ноги, потер лоб, всполошился:
– Это ты верно!.. Без ног ты не можешь по всей волости!.. Это какая-нибудь стерва другая!..
– И потом, глядите, Данил Акимыч, – поддакивал маньчжурец, – «оно» ведь день ото дня все больше, тут не один, а шайка… – Спохватившись, куда он прет, до пота испугавшись этого, Галкин повернул оглобли. – Причем я ведь, Данила Акимыч, не какой-нибудь: я – Егорьевский, на сражениях участвовал, дважды принимал присягу… Чудаки вы!
– Ну, скакай домой, что уж там язык ломать, – махнул рукой урядник. – Черт бы их побрал, безживотных, мотаются с листками, а ты через них ночи не спи.
– А вы спите, Данил Акимыч, – советовал Прохор. – Из-за плевого дела терпите беспокойство!..
– Я начальник над вами, как же я буду спать?.. Сознайся, ведь читал «их»?
– Господи, ну как же не читать? Читал, Данил Акимыч, читал! – с готовностью ответил Прохор. – Она у меня и сейчас в кармане, грешная! – Маньчжурец подал листок уряднику. – Сгоряча даже хотел на память заучить, ан опосля гляжу: белиберда! И так, извините, обидно стало!.. Эх, думаю, сучьего сына, убил бы я тебя!..
– Правда, что ли, что студенты-то приехали? – выпытывал урядник.
Галкин развел руками.
– А чума их знает! Бабы по деревне вякают, что правда.
В это время дверь с шумом растворилась, в комнату, как полоумная, влетела Прохорова мать.
– Ваше благородье!.. Кормилец!.. Ангел божий!.. Он не виноват!.. Может, это кто другие!.. Пожалейте мою старость!..
Прохор затрясся, побледнел.
«Выдаст… Пропало дело!»
Но, пересиливая волнение, беззаботно сказал:
– Чего ты испугалась, деревня? Разве господин урядник не понимает, что я присяжный человек? Пойдем скорей к себе в хату.
– Ваше благородье!.. Провались я на этом месте – не он!.. Чтоб мне света белого не видеть!.. – пуще выла старуха.
– Э-э, какая ты несговорчивая, – насильно тащил ее маньчжурец, – я ж тебе говорю, пойдем скореича!..
На улице, впившись пальцами в ее руку, так, что женщина застонала от боли, он бешено прохрипел:
– Зар-режу, дьявол старый!.. Только сделай еще раз!..
Старуха зарыдала.
– Уходи! – оттолкнул ее солдат. – Скройся с глаз долой, сердобольная ворона!..
XIVНа пестрой неделе, за три дня до мясного заговенья, в округе произошли великие события, а в Осташкове опять заговорили о студентах.
Перед событиями к нам приезжала стриженая барышня. Чужие люди у нас диво, городские – два. Барышня оделась в голубое шелковое платье, пальто на меху – настоящая дворянка. На станции спросила Лопатина, ее послали в Захаровку, а Лопатин в этот день ушел с книжками в Мытищи, приказав жене молчать… Больше часа барышня стояла перед бабой, спрашивая, где Илья Микитич, а та резала корове бураки и молчала, даже не поздоровалась с приезжей. Барышня решила, что баба немая, пошла искать Лопатина по деревне, за ней набрался человек в двадцать пять хвост любопытных, никто не знал, где Илья Микитич. Было холодно, в тонких ботинках барышня промокла, посинела, чуть не плачет, а захаровцы, особенно бабы, пристают к ней с расспросами: по какому случаю ей понадобился Илья Микитич?
– Ведь он у нас разновер, Ильюшка-то.
– Поп-от его страсть как не любит, чихотку!
– Может, тебе позвать Васютку Прокуду, лавопшика: у него всякий товар, какой душа желает…
Барышня спросила меня.
– Не знаем, – сказали ей, – у нас таких нету. Поспрошай в Свирепине.
Человек пятнадцать вызвалось проводить ее: благо недалеко – три версты. Она отказалась от провожатых, захватив с собой лишь одного мальчугана, уверявшего, что он меня хорошо знает, что я действительно живу в Свирепине. Но остальные тоже пошли провожать: мальчишка-то дуроломный, еще не в ту деревню заведет, не того мужика укажет!.. Барышня сказала, что она меня хорошо знает, не ошибется.
– Ну, тогда провожать нечего, – согласились захаровцы и пошли не вместе с нею, а поодаль, шагах в сорока, только чтобы не терять ее из вида. А когда сравнялись с рощей, которую дорога огибала полукругом, двинули напрямки через сугробы, прибежав в Свирепино раньше барышни.
– А мы уж тут, – добродушно улыбаясь, встретили они ее у свирепинской околицы. – Видать, что не привычны ходить пешечком… Пока присядьте, ребята побежали искать Ивана… Присядьте…
В Свирепине меня не нашли. Старуха Прасковья Шитикова, прибежавшая последнею, печально сказала барышне:
– Был он у меня, деточка, на прошлой неделе, а сейчас нету!.. Может, опять когда приедет, бог его знает… Вы с им на Украине, что ли, виделись?
– Да, – сказала барышня.
Свирепинцы переглянулись с захаровцами.
– Полюбовница… Разыскивает!..
В избе у нас сидела Настя, Аксинья-соседка, Мотя с мальчиком. Говорили, конечно, о подметных письмах и студентах.
Мать, любительница святости, несмотря на язвительный смех отца, как и Трофим Бычок, утверждала, что «народился антихрист».
– Ваньтя, Ваньтя, – с треском влетел в избу Климка Щукин, пасынок Аксиньи. – Беги скорей на улицу: к тебе приехала крымская полюбовница!.. Ей-богу!.. В дипломате!.. В мужиковской шапке!..; Хвостом-то так и мельтешит по снегу… Богатая!.. Беги!..
Не успел Климка закончить своей захлебывающейся речи, в двери, как лиса, просунула коргастую голову Чиказенчиха, смутьянка, помешавшаяся на сплетнях.
– А к вам гости, – сладенько пропела она, пряча блудливую улыбку. – Тебя, Иван, ищет!.. Прямо с машины… С Совастопали!..
Я в недоумении поглядел на мать, на отца, на Мотю. У них вытянулись лица. Настя густо, виновато покраснела.
– Ее свирепинские парни провожают!.. – продолжал, прыская, Климка. – Которые свистят во след-от, глаза лопни!..
Толпа захаровцев, свирепинцев, осташковцев подошла, гудя, к нашей избе.
– Хоз-зява!.. Дома ай нет?
В раму застучали палки, кулаки, к стеклу прилипли расплющенные рожи.
Вместе с домашними я выскочил на крыльцо, столкнувшись на пороге с барышней.
– Наконец-то! – чуть не со слезами воскликнула она, протягивая ко мне руки.
И по тому, как измученная поисками и любопытными расспросами барышня обрадовалась мне, как бросилась навстречу и как крепко сжала мои руки, все окончательно уверились в том, что приехавшая – моя крымская полюбовница.
– Не с брюхом ли?.. Петре Лаврентьичу внучка!.. – фыркали из сеней.
– Он, поди, как змей теперь шипит!.. Мужик сурьезный, взбаломошный, горячий…
– К вечеру беспременно произойдет сраженье!..
– Ваньтя-то! – моталась в толпе Чиказенчиха. – Услыхал, что прикатила, в лице переменился, побледнел, глазами туды-суды, сам не знает куды!.. Пришпилила молодчика!..
– Шахтер, – увидал я Петю, – разгони их, сволочей!.. Что они, как собаки, лезут?
– Да я, Вань, не могу, – смущенно замялся Петя. – Их дьяволов, полна улица… Чего ты, скажут, задаешься? Свою ждешь? – Он осклабился.
– Это же городская барышня!.. Осел!.. «Свою ждешь»!
– Как? – разинул шахтер рот. – Это которая бумаги составляет? – Лицо его побагровело, ноздри раздулись. – На какую, право, беду без соображенья можно напороться… Ведь это даже удивительно!..
Схватив дубовый пест, он зверем выпрыгнул из сеней в середину толпы.
– Марш!..
Полетели пинки, затрещины, поднялся визг; через минуту под окнами на измятом снегу валялась только кем-то оброненная сандального цвета однопалая варежка.
– Скажи Прохору, что приехала стриженая барышня, – шепнул я Насте. – Беги одним духом… Это неправда, что полюбовница!..
Когда барышня сняла шапку и все увидали, что она по-солдатски стрижена, мать горько заплакала.
– Ваня!.. Милый!.. Что же ты наделал?.. Стыдобушка моя!..
– Отстань, мать! – досадливо закричал я. – Что ты в наших делах смыслишь?.. Чайку бы вот надо… Отец, ты не сходишь за водой?
– Нет, не схожу, – с глубоким презрением глядя на барышню, ответил он. – У меня для вас чаю не наготовлено. Да, – стукнул отец по лавке кулаком, – не наготовлено! Богат – в трактир веди свою дворянку, а в моем доме не имеешь правов распоряжаться!.. Наш-шел курву!.. – Сжимая кулаки, он шагнул вперед. – Вон из моей хаты!.. Я х-хозяин!..
Если бы не Прохор с Настей, с шумом влетевшие в этот момент в избу, у нас бы действительно загорелось такое сражение, что от отцовской хаты не осталось бы и щепок.
– Поглядим, какую ты правду говоришь! – по-детски захлебываясь, еще из сеней визжал Прохор. – Ежели ты, кляча крученая, обманула, косу оторву! Где она тут, мошенница?.. Ваня, жив-здоров? Где барышня?.. Ах ты, мать чесная, отец праведный!..
Перебравшись через порог, маньчжурец столкнулся нос к носу с барышней.
– Так и есть, – промолвил он, роняя костыли. – Как же это?..
Смущенный, посеревший, он прижался в дверях к Пете.
– Ты уж, Петруш, здесь? Успел? Какой ты хитрый!.. Здравствуйте, барышня!.. Проведать нас приехали? Все ли живы-здоровы?..
Глядя на шахтера, на меня, на Настю, он счастливо хихикал, морща испитое лицо свое.
– Пойдем, Галкин, к тебе в избу, – сказал я, одеваясь. – На наших черт насел, чтоб им лопнуть!.. Барышня, захватите свой дипломатик!..
А по деревне звонили:
– Петрушке-то Володимерову счастье: деньги, поди, приперла – несусветную силу!
– Где он ее, шельму, подцепил? Вот тебе и Ваньтя!
– Нет, та-то дура: на мужика полестилась!.. Привередница!..
До глубокой полночи барышня беседовала с нами… Устала, охрипла, язык не ворочается, бесперечь пила воду, а мы все приставали:
– Еще немного, барышня, еще чуть-чуть.
– Не зовите меня барышней, – просила она, – зовите товарищем.
Мы поправлялись:
– Ну-к, еще про что-нибудь, товарищ-барышня!
– Какие вы все странные, – смеялась она.
И мы смеялись.
– Главная статья: нет привычки… Барышня – это постоянно, кого ни встретишь в дипломате, а товарищ… Мужик мужика, конечно… это дело десятое!..
– Мужик мужика променял на быка, – передразнивал Галкин. – Нет привычки, надобно стараться!
Он всеми силами старался помочь барышне, в особо интересных местах рассказа гладил ее по голове, заставил сесть на подушку, чтобы было мягче, как ребенок, смеялся, когда она улыбалась чему-нибудь, шипел на всех.
Было поздно. Сквозь забитые одеждой окна мягко гудел колокол: церковный сторож отбивал часы; скрипел снег под ногами колотушечника. Лица товарищей возбужденно счастливы.
Через день-два после отъезда барышни по Осташкову разнеслась весть, что в смежном с нами уезде «началось».
С отрядами казаков и стражников по деревням ездил губернатор, драл мужиков розгами. В одной деревне наводил суд и расправу, а «это», как головня, перебрасывалось в соседнюю: там и тут зловеще вспыхивали зарева. Ульяныч, мещанин-щетинник, рассказывая, только крутил головою от изумления.
– Теперь никогда не поеду торговать туда, а то и мне достанется.
– Там уж тебя ждут! – смеялись над ним.
В Пилатовке по поводу событий говорили:
– «Они» смикитили, что из середки уезда начинать – никто не делат. Приехал набольший, собрал их у нас в Роговике…
– Кого?
– Дыть стюдентов, кого же!.. Ваньтя тоже был, шахтеришко. Собрал в Роговике на сход… Ну, как?.. Как прикажете!.. Давайте перебросимся на вьюжный край, а оттелева – холстом… А ты, Ваньть, тут буторажь!.. «Они» – хитрые, жабы!..
Сладкодеревенцы, горлопяты, бахвалились:
– Скоро нас соборовать начнут, дай вот только губернатор приедет, он нам привьет воспу!..
Шахтер самолично созвал группу, предлагая «подтереть слюни и – за дело»… Того же мнения были Штундист, Богач, маньчжурец и Рылов, а Лопатин, я, Максим Колоухий и другие растерялись: может быть, еще не время?..
Первый раз наше собрание носило бурный характер; все переругались, как враги, а разошлись ни с чем.
На следующий день написали в город письмо, а пока решили разбросать «литературу».
– Сигнал! – кричали осташковцы, бегая с листками по деревне.
Но пришла другая весть: у князя казаки. Наиболее жидкие под разными предлогами разбежались, куда глаза глядят. Остальные даже днем держали двери на запирке.
Вызванный из города товарищ приехал ночью. Как и барышня, не зная расположения деревни, он долго плутал, отыскивая избу Галкина. Счастливый случай помог ему постучаться к дяде Саше Астатую. Тот, трясущийся, привел его ко мне.
Товарищ Лыко, – он нам лыки продавал на вокзале, – собрав компанию, сказал:
– Делать ничего не надо, вы попусту спешите… Дожидайтесь от нас знака. Зачем сейчас губить себя?..
– А если не сгубим? – зло выкрикнул шахтер. – Ты тоже с библией приехал?
Опершись, локтем на стол, покусывая русый ус, Лыко несколько минут внимательно разглядывал Петрушу. Тот, выпятив грудь, стоял посередь избы, не опуская глаз. Горожанин улыбнулся.
– Ничего не боитесь?
– Нет! – Петя даже надул щеки. – Еще не родился, кто меня напугает!
– Ого!..
– А все-таки начинать не надо, – твердо сказал Лыко.
– Мы с вами, Нилушко, в один голос, – расцвел Лопатин, – только разве с ими сговоришь!..
Хрустя пальцами, шахтер с презрением следил за ним.
Лыко привез с собою снадобьев, научил печатать на гектографе.
Уезжая, Лыко набросал несколько черновиков, но мы после его отъезда переделали черновики по-своему, более понятно, выбросив все «литературы» и «гектографы», мужицкому уху чужие.
Много спорили о том, как подписаться. Прохор, первый затирала в сварах, настаивал на том, чтобы подписались: «Беспощадный Осташковский Комитет из мужиков».
– Ты, служба, в уме или выжил? – урезонивал его Илья Микитич. – Чего ты городишь? Разве можно на себя идти с доносом?
– Так подпишитесь, что, мол, кому надо, узнает, кто составляет бумаги, – вяло отозвался из кутника Максим Колоухий. – Что, мол, мы бы свои фамилии проставили, но почему – опасно: могут забрать…
Большинством голосов решено было подписаться: «студенты».
Работа кипела. Каждую ночь дороги и улицы пестрели синими листками. Становой переехал на житье в Осташкове; в домах – то там, то здесь – производились обыски. Тщетно искали главарей: ни один ничего не знал или как бык глядел в землю.
Расширялась и внутренняя работа: главный кружок пополнился, и от него пошли отростки, товарищества и братства.
– Вчера сметану воровали из чужих погребов, а нынче урядник нехорош, – гнусавили старики.



