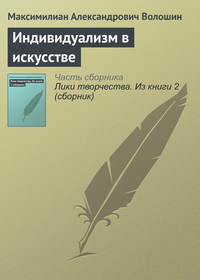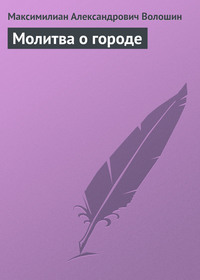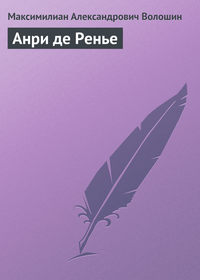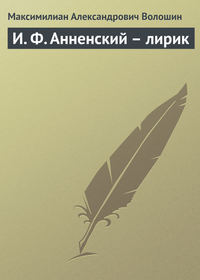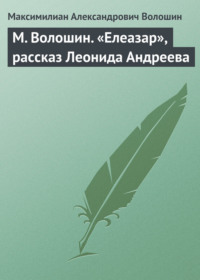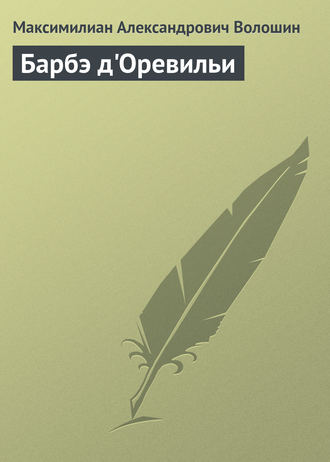 полная версия
полная версияБарбэ д'Оревильи
Поэтому на печати своей он написал слова гордые и грустные: «То late» – «Слишком поздно!», поэтому он любил повторять слова Моисея Альфреда де Виньи: «Господи! Ты создал меня сильным и одиноким!».
Лишь в крайнем индивидуализме человек может найти ту точку равновесия своей души, которая примиряет противоречия его природы, не принося в жертву одно другому и не оскопляя своих страстей. Индивидуализм Барбэ д'Оревильи назывался «дендизмом». Парадоксальная и дерзкая книга его юности, посвященная Джорджу Брёммелю, королю дендизма, «qui fut le roi par la grâce de la Grâce», «королю милостью Грации», дает ключ если не ко всей его жизни, то по крайней мере к той «поэме, которую он создал из своей личности», – поэме, так возмущавшей вкусы его современников.
Элегантная дерзость и презрение к общественному мнению – вот что больше всего чарует его в дендизме.
«Люди, которые рассматривают явления лишь с мелочной их стороны, выдумали, что дендизм – это искусство одеваться, удачная и смелая диктатура в области туалета и внешней элегантности. Это в нем есть, безусловно, но кроме того есть еще многое. Дендизм – явление человеческое, социальное и духовное. Это вовсе не платье, существующее как бы само по себе. Напротив, дендизм – это известная манера носить его. Можно быть одетым в лохмотья и оставаться денди… Денди собственным, частным авторитетом ставит свой закон над теми законами, которые Царят в кругах наиболее аристократических, наиболее приверженных традициям». Из последних слов явствует, что если Барбэ д'Оревильи избрал знамена католицизма и монархии, чтобы бороться против торжествующего материализма и демократии, то дендизм привлекал его как мятеж против аристократических косностей.
В какие элегантные парадоксы облекает он свою апологию тщеславия, лежащего в основе дендизма!
«Что такое тщеславие? Любовь это, дружба или гордость?
Любовь говорит любимому существу: „Ты моя вселенная!“.
Дружба: „Ты мне подходишь“, но чаще: „Ты утешаешь меня“.
Гордость же молчалива. Она как король одинокий, праздный и слепой; корона закрывает ему глаза. Тщеславие владеет вселенной менее узкой, чем любовь. То, чего достаточно для дружбы, ее не удовлетворяет. Если гордость – король, то тщеславие – королева; она окружена, деятельна и прозорлива, и корона ее не на глазах, а там, где она красит ее красоту».
У дендизма нет законов. Он весь в индивидуальности, в крайнем утверждении своей личности, на которое способны только англичане. Барбэ д'Оревильи проводит такую параллель между героями французской ж английской элегантности: между Джорджем Брёммелем и графом д'Орсэ:
«Д'Орсэ нравился всем настолько естественно и страстно, что даже мужчины носили медальоны с его портретом. Денди же нравятся только женщинам – нравятся, возбуждая ненависть. Д'Орсэ был королем любезного радушия. Радушие же относится к чувствам, совершенно неведомым денди. Подобно им, он владел искусством туалета, не блестящим, но глубоким, и потому, конечно, верхогляды смотрели на него как на преемника Брёммеля. Но дендизм вовсе не грубое искусство завязывать галстук. Есть денди, которые никогда не носили его. Пример – лорд Байрон, у которого была такая прекрасная шея. Кроме того, д'Орсэ внушал страсть к себе, и долгую. Из них одна осталась исторической. Денди же любимы лишь спазмодически. Женщины, которые ненавидят их, тем не менее отдаются им и за то имеют счастие, которое дороже всего: ненависть свою сжимать в объятиях. Что же касается до очаровательной дуэли д'Орсэ, тарелкой швырнувшего в голову офицера, непочтительно отозвавшегося о св. Деве, и дравшегося за нее, потому что она была женщина, а он не мог допустить, чтобы оскорбляли даму в его присутствии, то что может быть более французского и менее денди?».
Согласно этим идеалам созданы все герои романов Барбэ д'Оревильи, от виконта де Брассара до графа Равила де Равилес, от Кавалера де Туша до аббата Жеоэля де Круа-Жуган.
И не был ли сам Барбэ д'Оревильи вполне достоин своих героев, когда на вызывающие слова Бодлэра: «В своей статье вы осмелились коснуться интимных сторон моей личности. Я поставил бы вас в довольно неловкое положение, если бы послал вам вызов, так как вы как католик, кажется, не признаете дуэли?» – он выпрямился и отвечал: «Страсти мои я ставлю всегда выше моих убеждений. Я к вашим услугам, милостивый государь».
Обладая такими свойствами ума и души, Барбэ д'Оревильи не рискует стать писателем популярным, так как, чтобы полюбить его, надо дойти до той степени сознания, когда начинаешь любить человека лишь за непримиримость противоречий, в нем сочетавшихся, за широту размахов маятника, за величавую отдаленность морозных полюсов его души. Вся красота Барбэ в том, что он не боялся своих противоречий, а спокойно носил их в себе, зная, что между двумя противоположными остриями вспыхивают наиболее яркие молнии сознания.
Анатоль Франс едко замечает, что он был непримиримым католиком, но веру свою исповедовал предпочтительно в богохульствах. Но не надо забывать, что католицизм был для него «познанием добра и зла», что уже само по себе отчасти богохульство. И потом ведь «если он мыслил как католик, то воображение его всегда оставалось языческим» (Греле).
Он сказал Анатолю Франсу: «Для Господа нашего Иисуса Христа было большим счастием, что он был Богом. Как человеку ему не хватало характера». Одному другу, который, встретив его однажды утром перетянутого, с вытянутой талией, сказал ему: «Черт побери, д'Оревильи, вы однако ловко затянуты в этот сюртук!», он отвечал: «Если бы я в настоящую минуту причастился святых тайн, я бы лопнул». В таких словах нет богохульства, а есть известная фамильярность с Богом, свойственная умам гордым и верующим. С полным правом в ответ на эти обвинения Барбэ д'Оревильи мог бы повторить слова, которые он влагает в уста одного своего героя, аббата Перси: «Разве недостаточно много сражался я за честь Господа и его святой церкви, чтобы он милостиво простил мне дурные привычки, приобретенные на его службе, и не придирался к формальностям. Когда после сражения при Мальплакэ Людовик XIV воскликнул: „Кажется я оказал Богу достаточно услуг, чтобы иметь право рассчитывать на лучшее отношение ко мне“, то, конечно, он никогда не был лучшим христианином, как в это мгновение. Искренняя вера часто позволяет себе эти фамилиарности с Богом, которые глупцы принимают за смешные непочтительности, а лакейские души и философы за гордость. Предоставим же болтать этим господам. Для нас же, которым уважение к королю никогда не мешало свободному обращению с ним, – это совсем иное».
Рассказывая в романе «Chevalier des Touches» про роялистов, критиковавших Бурбонов, Барбэ замечает: «Они жаловались на Бурбонов, как жалуются на любовницу. А жаловаться на любовницу – это значит лишний раз свидетельствовать о степени своего обожания».
Но все эти психологические утонченности не были оценены современниками Барбэ. «Во Франции оригинальность не имеет родины; ее ненавидят как призрак благородства. Посредственности всегда готовы того, кто не похож на них, укусить тем укусом десен, который не причиняет боли, но пачкает». И, конечно, эти беззубые и пачкающие укусы были все-таки чувствительны Барбэ, гордившемуся тем, «что, проходя чрез много несчастий и испытаний жизни, он всегда сохранял чистыми свои белые перчатки». К таким пачкающим укусам он, без сомнения, относил и те недоразумения, которые постоянно возникали по поводу его романов и рассказов. Он был моралистом и боролся против Дьявола и его обольщений, а между тем его самого считали поэтом греха и извращенности; его наиболее католическое произведение – роман «Le prétre mariè» было изъято из продажи распоряжением Парижского архиепископа, а когда появились «Les Diaboliques», Барбэ д'Оревильи писал в одном из своих писем: «Само собою разумеется, что „Diaboliques“ с их заглавием не претендуют быть молитвенником или „Подражанием Христу“. Но они, тем не менее, написаны моралистом и христианином, который стремится к верности наблюдения, хотя бы и дерзкого, и верит, что сильные художники могут рисовать все и что живопись их всегда будет нравственна, если только она трагична, если только она передает ужас тех явлений, которые они описывают. Лишь равнодушные и глумящиеся могут быть безнравственными. Автор же этой книги верит в Дьявола и в его власть над миром, поэтому он не насмехается и истории эти рассказывает вовсе не для того, чтобы напугать чистые души. Не думаю, чтобы тому, кто прочтет „Les Diaboliques“, захотелось бы в жизни повторить их. В этом мораль книги». Но Барбэ д'Оревильи был слишком художник, чтобы не приходить в восторг от удачных и законченных творений исконного врага своего, дьявола. Он был как тот французский инженер в «Тарасе Бульбе», который во время осады польского города казаками, видя их атаку, бросил заряжать свою пушку и стал им аплодировать и кричать «Bravo, messieurs zaporogui!».
Однажды Барбэ рассказывал Пеладану содержание одной своей повести (это была последняя из «Diaboliques» – «Une histoire sans nom», вышедшая отдельной книгой), «повести любви и счастия столь преступного, что одна лишь мысль о нем приводит в ужас и чарует (да простит нам Господь!) – чарует той чарой, что тот, кто испытывает ее, сам становится соучастником»… Когда Пеладан, придя в ужас от того наказания, которому Барбэ подверг своих героев, пытался оправдать их примерами истории и искусства, Барбэ д'Оревильи взял его за руки и сказал торжественно: «Дьявол – великий художник, и это Его вы слышали только что. Но не следует допускать, чтобы произведение, вами написанное, было освещено адскими огнями, когда вы имеете честь быть христианином». В этих словах высказался весь Барбэ-художник.
И все-таки, несмотря на совершенство и необычайность своих произведений, несмотря на импонирующую красоту своей личности и своей литературной роли, Барбэ д'Оревильи навсегда останется лишь подземным классиком, лишь напрасным фейерверком ума, страсти и вдохновения.
III. Мнения современников о Жюле Барбэ д'Оревильи
О Барбэ д'Оревильи существует довольно обширная литература. Ему посвящено несколько книг, из которых самая ценная и полная принадлежит перу Греле, и много десятков газетных статей. Наиболее беспристрастная из оценок его произведений была сделана Реми де Гурмоном в большой статье, ему посвященной. Анатоль Франс после смерти его дал «Temps» блестящую характеристику – тонкий, остроумный и убийственно злой портрет последнего шуана. Статья Жюля Леметра интересна как документ отрицательного отношения к Барбэ. Поль де Сен-Виктор был один из первых, околдованных им, и слова его, приводимые здесь, взяты из статьи, появившейся в «La Presse» в конце 50-х годов. Они подтверждают тот неимоверный комплимент, который был сказан Виктором Гюго Сен-Виктору: «Стоит написать целую книгу лишь для того, чтобы вы написали об ней одну страницу».
Пеладан был последним из сердец, завоеванных Барбэ: он его узнал лишь в старости.
К сожалению, недостаток места не позволяет мне привести здесь восторженно-гневные дифирамбы Леона Блуа и Поля Бурже к дневнику (Memorandum) Барбэ д'Оревильи.
[М. Волошин]
Реми де ГурмонБарбэ д'Оревильи – это одна из самых оригинальных фигур в литературе XIX века. Весьма вероятно, что он еще долго будет вызывать любопытство и надолго останется одним из немногих как бы подземных классиков французской литературы. Алтари их в глубине крипт, но верные спускаются туда охотно, между тем как храмы великих святых к солнцу раскрывают свою пустоту и уныние. В области слова они немного то, что «любовники» в жизни. Семьи сторонятся от них, к ним боятся подойти, но на них смотрят и гордятся тем, что их видели. Они отнюдь не чудовища. Напротив, их находят слишком красивыми, слишком свободными. Медленно и с осторожностью священники и профессора изгоняют их из библиотек и прячут их в глубине шкапов: выставленные на свет, блещут мораль и разум. Но всегда существуют люди, которые смеются над моралью и не уважают разум. Те грешники, что сохранили нам Петрония и Марциала, в наши дни Ламартину предпочитают Бодлэра, Барбэ д'Оревильи – Жорж Занд, Вилье де Лиль-Адана – Додэ, Верлэна – Сюлли Прюдому. Из этого следует, что существует две литературы: одна, которая соответствует консервативным стремлениям человечества, а другая – разрушительным. Таким образом, ничто не может быть ни разрушено вполне, ни вполне сохранено. Каждый в свою очередь выигрывает в лотерее, и культурным людям это доставляет неистощимую тему для разногласия.
Барбэ д'Оревильи не из тех людей, которые предрасполагают к банальным восторгам. Он сложен и капризен. Одни смотрят на него, как на христианского публициста, как на Вейо-романтика, другие кричат о его безнравственности и о его сатанинской дерзновенности. И это все есть в нем: отсюда все противоречия, которые существовали в нем не только в сменах, но и одновременно. Сперва он был афеем и имморалистом; но когда духовный переворот кинул его обратно к религии, он остался таким же имморалистом, как вначале, и это казалось невероятным. Никто и даже он сам, быть может, не знал, соединялся ли его бодлерианский католицизм с истинной верой. Про Шатобриана говорили: «он верит в то, что он верит». Барбэ д'Оревильи, наоборот, был так уверен в своей вере, что дозволял себе всякие вольности, даже свободу быть ей неверным. Отчасти это происходило и оттого, что он изучил историю церкви достаточно глубоко чтобы знать, что лучшие и наиболее ей пользы принесшие католики были в то же время великими язычниками. Как нормандец, он не способен на глубокую религиозность, но глубоко привязан к некоторым формам религиозных традиций. Он индивидуалист до скандала; авторитет он может выносить лишь в виде той идеи, которую он сам себе создал. Полный нежности к своей родной земле, он покидает ее без сожаления, чтобы позже опять вернуться к ней с любовью. Рожденный в среде, чья культура вся в традициях, он чувствует потребность в новых устоях и уходит на завоевание их с безоглядностью искателя приключений. Характер его лишен гибкости, и потому ему предстоит долгая борьба. Пятьдесят лет понадобится ему для того, чтобы дрожащей рукой прикоснуться к славе.
Барбэ д'Оревильи обладает истинным характером романиста – редким характером. Он интересуется жизнью. Это связывает его с Бальзаком. Любовь людей, их слова, их жесты для него явления глубоко серьезные, даже когда они комичны. Он истинный социолог. Общество для него абсолютно. Флобер рядом с ним – физик, для которого жизнь безразлична: он взвешивает и измеряет вещество. Но воображения в Барбэ больше, чем наблюдения. Когда он внимательно всматривается в жизнь, он начинает там замечать вещи, видимые лишь для него одного. Другими словами, в тот самый момент, когда ему кажется, что он наблюдает, он фантазирует. Реальность для него только предлог, лишь исходный пункт. Это поэт, и как романист он может быть ближе к Теофилю Готье, чем к Бальзаку. Он любит слова ради их самих и складывает фразы лишь ради их звучности. Литературная чуткость его очень велика. Ему стоило многого простить неловкости стиля страстно им любимому Бальзаку. Красота формы сделала его снисходительным к тем идеям, которые вызвали бы его гнев, будучи выражены плохим языком.
«Les Diaboliques» – это расцвет гения Барбэ д'Оревильи. Если бы эта книга принадлежала перу Бальзака, она была бы шедевром Бальзака. Страсть красноречивую, экспансивную мы находим повсюду у Барбэ д'Оревильи, но здесь страсть со сжатыми хубами, страсть без жестов. Недостатки «Les Diaboliques» мы почувствовали лишь после Флобера. Отнесенные же к их настоящей эпохе, такие рассказы, как «Dessous de carte d'une partie de whist», не имеют иных несовершенств, чем те, что в настоящее время портят нам впечатление «El Verdugo» или «La Grande Breteche».
Анатоль ФрансМне довольно трудно составить себе справедливое представление о характере Барбэ д'Оревильи. Я его видел всегда. Для меня это воспоминание детства, как статуи на Pont d'Ièna, у подножия которых я играл в серсо в те времена, когда на диких и цветущих склонах Трокадеро еще можно было собирать кашки, клевер и кукушкины слезки.
У меня не было никакого определенного, мнения об этих статуях. Я смутно различал, что это были люди, которые за узду держали каменных лошадей. Не знаю, были ли они безобразны или красивы, но я чувствовал, что они были зачарованы, как свет солнца, который сладко купал меня, как свежие вздохи ветра, которые я вдыхал с радостью, как деревья пустынной набережной, как смеющиеся воды Сены, как весь мир. О, я это прекрасно чувствовал. Но я не знал, что колдовство было во мне и что это я сам, такой маленький, сияющий радостью, наполнял всю неизмеримую вселенную. В девять лет субъективность впечатлений окончательно ускользала от меня.
Первые встречи мои с г-ном д'Оревильи относятся к этой райской поре моей жизни. Моя бабушка, которая его немного знала и которую он весьма удивлял, мне показывала его, как редкость, во время наших прогулок.
Этот господин в шляпе с полями из красного бархата, сдвинутой на ухо, с узко стянутой талией, в сюртуке, спадавшем широкой юбкой, который прогуливался, ударяя хлыстом по золотому галуну своих обтянутых панталон, не внушал мне никаких размышлений, так как моим естественным свойством было, – ее искать причин явлений.
Я смотрел, и никакая мысль не смущала ясности моего взгляда. Я был лишь доволен тем, что существуют люди, которых легко узнать. Г-н д'Оревильи был, разумеется, из таких людей. И инстинктивно я чувствовал к нему дружбу. В моей симпатии я соединял его с инвалидом, который ходил на двух деревянных ногах, с двумя палками в обеих руках, с носом выпачканным в табаке и, встречаясь со мной, говорил мне: «Здравствуйте-с»; со старым учителем математики, одноруким, который красным лицом, украшенным бородой сатира, улыбался моей няньке, и с большим стариком, одетым в одежду из грубой парусины, со дня трагической смерти своего сына. Эти четыре лица имели для меня то преимущество над всеми остальными, что я легко мог их узнавать и рад был узнавать их. И еще в настоящее время я не вполне могу отделить г-на д'Оревильи в своих воспоминаниях от учителя математики, от инвалида и от сумасшедшего. Все четверо они для меня сливались с другими памятниками Парижа, подобно статуям на Иенском мосту. Была лишь та разница, что они двигались, в то время как статуи не двигались. Об остальном я не думал.
Двенадцать лет прошли незаметно, и однажды, зимнею ночью на улице du Вас я встретил случайно Барбэ д'Оревильи, который шел в сопровождении Теофиля Сильвестра. Я был с другом, который представил меня. Сильвестр защищал святого Августина, ругаясь при этом, как дьявол. Железным наконечником своей трости он бил о край тротуара.
Барбэ, ударив тоже, высек искры и воскликнул:
«Мы циклопы мостовой!».
Он сказал это своим голосом серьезным и глубоким. Уже утеряв свою первобытную чистоту, я очень желал понять; я искал смысла этих слов, не мог разгадать его и испытывал истинную боль.
Мне приходилось встречать Барбэ д'Оревильи во все эпохи моей жизни. Я имел честь сделать ему визит в его маленькой комнатке на улице Рус-селе, где тридцать лет прожил он в благородной бедности.
Барбэ д'Оревильи, одетый в красное, стоял гордый и великолепный в этой поблекшей и голой комнате. Надо было слышать, как произнес он эту трогательную ложь:
– Свою мебель и ковры я отправил в деревню.
Беседа его сверкала образами и неожиданными оборотами.
«Je tisonne dans vos souvenirs pour les ranimer… Vous regardez la lune, mademoiselle: c'est l'astre des polissons… Vous l'avez vu, terrible, la bouche èbrèchèe comme la gueule d'un vieux canon…[25]
…для Господа нашего Иисуса Христа большое счастье, что он был Богом; как человеку ему не хватало характера…».
Все это говорилось серьезным голосом, в котором, не знаю как, смешивались и ужасающе сатанинское, и очаровательно детское.
И это был старый господин лучшего тона, изысканно вежливый, с величественными манерами.
Без сомнения, он был необычаен. Но как Генрих IV на Pont-Neuf или пальма на крыше купальни Самаритен, он больше не удивлял. Его кафтаны, подбитые красным бархатом, казались чем-то, не скажу обычным, но необходимым.
В сущности, и это делало его столь безусловно любезным, он не хотел никогда никого ни удивлять, ни забавлять. Это он делал лишь для самого себя. Лишь для самого себя он носил и кружевные галстуки и манжеты, как. у мушкатеров. У него не было, как у Бодлэра, ужасного искушения изумлять, противоречить, вызывать антипатию.
Его странности никогда не носили характера враждебности. Он был естественно эксцентричен.
В жизни его есть темные периоды: про него утверждают, что в течение некоторого времени он был компаньоном торговца религиозными предметами в квартале Сен-Сюльпис. Не знаю, правда ли это. Но мне хотелось бы, чтобы это было так. Мне нравится, что этот тамплиер продавал четки.
В этом я нахожу забавное возмездие условному со стороны реальности.
Однажды я видел старого трагика в Одеоне, который с челом, увенчанным царскою повязью, и со скипетром в руке изображал Агамемнона. Мысль о том, что этот царь царей женат на театральной уврезке, наполнила меня извращенною радостью.
Представить себе Барбэ д'Оревильи, принимающим заказы монастырского белья, – в этом есть удовольствие еще более изысканное.
Но если подумать, то самое удивительное совсем не то, что д'Оревильи продавал стихари, а то, что он писал критические статьи. Однажды Бод-лэр, которого он третировал в своей статье как преступника и великого поэта, подошел к нему и, скрывая свое глубокое удовольствие, сказал:
– Милостивый государь, вы посмели коснуться интимной стороны моего характера. Если бы я потребовал вас за это к ответу, я поставил бы вас в довольно затруднительное положение, так как, будучи католиком, вы не принимаете дуэли.
«Monsieur, – сказал Барбэ: – страсти свои я ставлю всегда выше своих убеждений. Я к вашим услугам».
Он немного хвастался, говоря о своих страстях. Но, надо отдать ему справедливость, он никогда не колебался ставить свои фантазии выше здравого смысла. Двенадцать томов его критики – это самое своевольное, что было когда-либо вдохновлено капризом. Критика его полна гнева и бешенства, оскорблений, обвинений, богохульств и отлучений.
Она сыпет молнии и остается в то же время самым невинным созданием в мире. И здесь д'Оревильи спасен своим гением, своей счастливою ребячливостью. Он пишет, как ангел, как дьявол, во он сам не знает, что он говорит.
Что же касается до его романов, то они занимают место среди самых удивительных произведений нашего времени. Два из них, безусловно, шедевры в своем роде. Я говорю о «L'ensorcelèe» и об «Chevalier des Touches».
Стиль Барбэ д'Оревильи – это то, что меня удивляет больше всего: он неистов и нежен, груб и изыскан. Сен-Виктор сравнивал его с теми колдовскими напитками, куда входят одновременно цветы, змеиная слюна, мед и кровь тигра. Это адское питье; но оно по крайней мере не пресно.
Что же касается до философии Барбз, который был философом меньше, чем кто-либо из людей, то это приблизительно философия Жозефа де Ме-стра. Он прибавил к ней лишь богохульства.
О своей вере он заявлял при каждом удобном случае, но предпочтительно он исповедовал ее в богохульствах. Кощунство для него было приправой к вере. Как Бодлэр, он обожал грех.
Он знал лишь гримасу, лишь маску страсти. Он всегда впадал в кощунство, и ни один верующий не оскорблял Бога с таким усердием.
Не бойтесь. Этот великий богохульник будет спасен. В своей нечестивой дерзновенности тамбурмажора и романтика он сохранил божественную невинность, которая пред престолом вечной Мудрости заслужит ему прещение. Св. Петр скажет, увидавши его:
«Вот Барбэ д'Оревильи. Он хотел обладать всеми пороками, но не мог, потому что это очень трудно и для этого необходимы естественные склонности. Он очень любил драпироваться в преступления, потому что преступление живописно. Он остался самым светским человеком в мире, а житие его было почти монастырское. Правда, он иногда говорил отвратительные вещи; но так как он и сам в них не верил и никого не мог заставить поверить, то это оставалось только литературой, что извинительно. Шатобриан, который тоже был на нашей стороне, своей жизнью издевался гораздо более серьезно над нами».
Жюль ЛеметрБарбэ д'Оревильи меня изумляет… и кроме того… он меня снова изумляет. Мне цитируют его слова поразительного остроумия, героического полета, которые блеск образа соединяют с неожиданностью мысли. Мне говорят, что он говорит всегда так, что он шествует сквозь жизнь, облеченный в нарочитый костюм, затянутый, надушенный, застывший в позе вечного рыцарства, непрерывного дендизма, непроходящей молодости. Это мастер слова красноречивый, обильный, пышный, изысканный, с султаном на шляпе, до редкости лишенный простоты… Он внушает мне самое почтительное уважение, но в то же время он меня смущает, пугает, повергает в изумление.