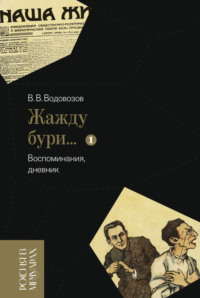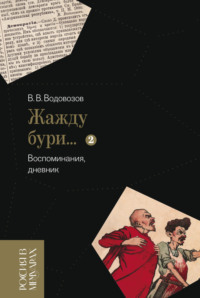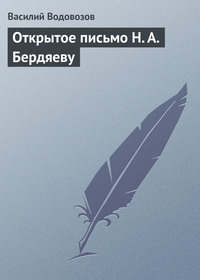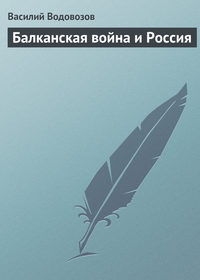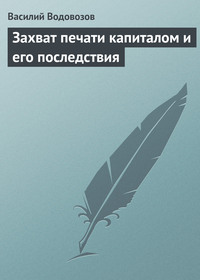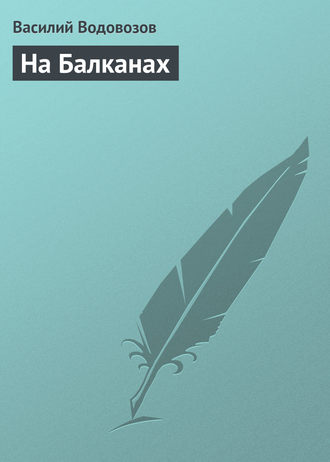 полная версия
полная версияНа Балканах
Через несколько месяцев, когда стало известно содержание договора 29 февр., и когда хищнические вожделения правительств стали проглядывать яснее, тогда были возмущены многие даже из тех, кто раньше горячо поддерживал болгарское правительство в его воинственной политике. «Преступный договор», говорил о договоре 29 февр. на одном общественном собрании Петко Тодоров, один из наиболее благородных и уважаемых болгарских писателей.
Через два месяца войны союзники отняли у Турции всю Македонию и стояли уже под Адрианополем и Чаталджей, т. е. у самых ворот Константинополя. Было заключено перемирие, и 3 декабря начались в Лондоне переговоры о мире. После непродолжительных споров Турция согласилась отказаться от Албании, Македонии, Крита, и только упорно настаивала на сохранении за собою Фракии с Адрианополем, и второстепенных Эгейских островов. На Адрианополь турки смотрели, как на важную крепость, защищающую Константинополь.
Если бы освобождение Македонии было действительной целью войны, то мир был бы заключен уже в декабре.
Впоследствии, во время моего пребывания в Болгарии, я даже от представителей правящих партий (народняков и цанковистов), слышал горестное признание, что вторая половина войны с Турцией была роковой ошибкой. И это несомненная правда.
Именно завоевание Фракии с Адрианополем, давшее Болгарии гораздо более, чем она рассчитывала в начале войны, усилило аппетиты Сербии и Греции и дало им формальное основание предъявить к болгарам требования, далеко выходившие за пределы их собственных первоначальных планов и договоров.
Но тогда, в декабре 1912 и январе 1913, у победоносного болгарского правительства и правящих кругов Болгарии настроение было иное, и они пожелали продлить войну. Адрианополь пал, и по миру 17 мая союзники получили гораздо больше, чем они могли желать. В результате и произошла отвратительная бойня из-за дележа добычи.
В самом её начале я имел случай наблюдать в Варне характерную сцену. Я отправился на вокзал, чтобы узнать, ходят ли, и когда поезда в Софию, и застал там толпу народа. Преобладали женщины всех возрастов и всех общественных классов. Были дряхлые старухи в черных платьях с черными платками на голове; были молодые крестьянки; были дамы из общества в изящных шляпках с убийственными шляпными булавками; у иных на руках были маленькие дети, иные везли их в колясочках. Были и мужчины, как из крестьян, так и из интеллигенции, но почти исключительно старики и подростки; у всех в руках цветы. Сразу бросалось в глаза, что это не обычная толпа. При всем разнообразии лиц и выражений, на всех было явственно написано горе. Оказалось, что толпа ожидает воинского поезда, который через несколько времени должен отправиться в Софию.
С ним должна были ехать частью запасные, только теперь взятые в армию, частью солдаты, которые уже были на войне, но лечились здесь от ран или болезней, и после выздоровления вновь отправлялись на войну, или же отпущенные в краткосрочный отпуск.
Наконец, они прибыли. Одни в сапогах, другие в «царвуляк», – своеобразных болгарских не то лаптях, не то туфлях; одни в потрепанных и оборванных солдатских мундирах, другие тоже в потрепанных блузах, или даже рубашках, а многие в своих домашних крестьянских «дрехах», или же в европейских пиджаках. Одни – заправские солдаты, другие еще не приняли военного вида. Все, однако, одинаково производили впечатление людей пришибленных, людей глубоко несчастных. Тут обнимался солдатик с рыдающей навзрыд матерью, там дети вешались на шею отцу. Солдаты крепились, но увы, героического вида не было ни у кого. Я много слышал о взрыве патриотизме в турецкую войну, о матерях, женах и невестах, с непреклонной твердостью посылавших сыновей, мужей и женихов на войну за родину. Теперь ничего подобного: совершенно то самое, что несколько лет назад я видел в России во время японской войны: толпу людей, которых насильно гонят на убой. Заиграла военная музыка. Бодрый, красивый болгарский марш должен был поднять настроение толпы, по он этого не сделал и врывался диссонансом в рыдания и всхлипывания. Солдат загнали в товарные вагоны, на которых красовалась традиционная надпись: «55 души или 8 коня», загнали чуть ли не в удвоенном числе против положенного. Солдаты жались, как сельди в боченке; стояли на подножках, держались за поручни вагонов. Многие забрались на крыши вагонов и расселись на них. В таком виде поезд тронулся. Военный оркестр снова заиграл марш, кое-кто из солдат крикнул «ура», но общий характер картины от этого ура нисколько не изменился.
Я разговорился с одним крестьянином-стариком, из числа провожающих. Родных среди отправляющихся солдат у него не было, – внук его убит в турецкую войну, – но много знакомых я друзей.
– Брат пошел на брата, говорил он мне. А кто виноват?
– Кто же виноват? – переспросил я.
– Я знаю, кто виноват.
– Ну, так скажите.
Но он упрямо повторял одно: «я знаю, кто виноват» уклоняясь от ответа, и вдруг обратился ко мне с неожиданным вопросом:
– Вы знаете свои грехи?
– Конечно, знаю.
– А говорите о них всякому встречному?
– Нет, не говорю.
– Ну то то же – сказал он и замолчал, а потом неожиданно прибавил:
– Гегемония виновата.
– Кто?
– Балканская гегемония, вот кто.
Смысл ответа был ясен. А еще яснее стало, когда он сообщил:
– Уродился хлеб у нас хорошо, и пшеница, и ячмень. А кому его убирать? одни бабы остались, мужчин совсем нет. Разве бабы управятся? Ох, что то будет.
Мой собеседник не составлял исключения. Новая война была крайне непопулярна в народных массах, и, однако она являлась строго логическим выводом из предыдущей войны с Турцией, из условий гарных договоров 29 февраля и 17 мая и в этот исторический момент вряд ли смогло бы ее предотвратить какое бы то ни было министерство. В самом деле. Была одержана блестящая, редкая по своей бесспорности и широте победа, – и тем не менее ни одна из целей, поставленных себе Болгарией, ни освобождение Македонии, ни её завоевание, не была достигнута. Значительная часть Македонии оказалась в руках либо сербов, либо греков, и там началось такое преследование всех болгарских элементов страны, такой национальный гнет, какого несчастная страна не знала за столетия турецкого владычества. Болгария не могла не протестовать, а при неуступчивости Сербии и Греции не могла не начать войны, хотя в то же время вскрывшийся и выяснившийся характер союза и турецкой предстоявшей войны, вместе с бедствиями, уже перенесенными народом, и неизбежной тяжестью и позорностью новой войны, произвели решительную перемену в настроении народа. Но как отступить без борьбы, когда все плоды тяжелой войны и блестящей победы вырывались из рук, когда национальная задача, казалось, была уже совсем почти разрешена! В этом внутреннем противоречии бесплодно билось правительство и не находило исхода.
Министерство Гешова, заключившее договор 29 февраля с Сербией, проведшее войну с Турцией, отказавшееся закончить ее без Адрианополя, следовательно ответственное и за предстоящую войну с союзниками, 1 июня подало в отставку и предоставило расхлебывать кашу своему заместителю, новому министерству, во главе которого стал Данев. Это была смена лиц, а не направлений: оба министерства были коалиционными и составились из двух господствующих в народном собрании партий: народняков и цанковистов, с преобладанием в первом первых и во втором последних. При Даневе и началась новая война.
Военные действия были начаты 17 июня болгарами, но начаты они были не по распоряжению правительства. Ее начал главнокомандующий (формально носивший звание помощника главнокомандующего, так как главнокомандующим считался царь Фердинанд) ген. Савов, ставленник Фердинанда, persona grata при дворе, стоявший во главе военной партии. Правительство поспешило немедленно удалить Савова и заменить его Р. Дмитриевым, приказало войскам отступить и готово было дать Сербии любое удовлетворение. Но было уже поздно: Сербия и Греция, обрадованные весьма удобным для них поводом, поспешили объявить войну.[4].
Кто же виноват в этой последней братоубийственной войне? Формально – Болгария; ведь её главнокомандующий начал ее; по существу дела – кто то Другой. Вторая война – логически неизбежный вывод из первой (турецкой) войны; следовательно, виноваты те, кто начал войну с Турцией, подменив в ней освободительные задачи задачами завоевательными. Виновата в этом и Болгария, но не больше других союзников; виновата и русская дипломатия, благословившая союзников на заключение преступного договора 29 февр.; виновато и русское общество, так как оно своим сочувствием поддержало начало войны с Турцией, проглядев в ней её завоевательное содержание. Но непосредственно в союзнической войне Болгария виновата гораздо меньше, чем Сербия и Греция; у этих последних хищнические вожделения проявились гораздо грубее, чем у Болгарии; именно они оказались неудовлетворенными даже договором 29 февр., и грубо нарушили его, притом не в интересах обойденных ими македонцев (которые во всяком случае ближе к болгарам, чем к сербам), а исключительно в собственных своекорыстных интересах.
Если бы не вмешательство Румынии, а потом Турции, то победа почти наверное осталась бы на стороне Болгарии: её военные силы были значительнее и лучше, и она одержала ряд побед над сербами и греками. Но когда румыны, вступив на территорию Болгарии, заняли всю северную половину страны, прекратили действие железных дорог; затруднили, почти уничтожили подвоз припасов к армии; каждоминутно грозили вступлением в Софию; вообще парализовали весь государственный организм, то война стала немыслимой, и Болгария начала терпеть поражения, в особенности со стороны Греции. Гаснет её правительства на помощь России не оправдался; совершенно напротив; Россия заняла явно сербофильскую позицию, и тогда министерство Данева заявило вождям политических партий, что его политика обанкротилась. Место его заняло австрофильское правительство Радославова.
24 июля был заключен бухарестский мир. Оставляя теперь в стороне общее разорение, о котором я уже говорил, что дал этот мир Болгарии, Балканам и всей Европе?
Он нанес тяжелый, может быть, непоправимый удар Болгарии, как государству.
Прежде всего он отнял у неё в пользу Румынии полосу земли с 300 000 душ населения. Он обязал Болгарию срыть крепости в Рущуке и Варне, и, таким образом, обнажил ее в стратегическом отношении со стороны Румынии. На западной стороне она тоже почти обнажена со стороны значительно усилившейся Сербии, а если она не получит Адрианополя, что в настоящее время может считаться почти окончательно решенным, то она окажется обнаженной и со стороны юга. Таким образом, в стратегическом отношении Болгария из недавно еще самого могущественного государства Балканского полуострова обращается в государство, легко уязвимое со всех сторон. Теряя полосу земли на северовостоке в пользу Румынии, Болгария теряет наиболее плодородные свои земли, теряет свою житницу. Благодаря этому её казначейство теряет значительную долю налогов, её заграничная торговля получает ущерб, так как хлебный её экспорт создавался в значительной мере именно этою областью. Взамен этого она получает совершенно разоренные земли Македонии и не получает ни Салоник, ни Кавалы, двух лучших гаваней на Эгейском море, которые до некоторой степени могли бы компенсировать эту потерю. Что же касается третьей гавани на Эгейском море, Дедеагача, то её судьба еще не вполне решена, а если даже она достанется Болгарии, то она, как по самым свойствам этой гавани, так и по сравнительной отдаленности от болгарских центров, не может иметь для Болгарии большего значения. Таким образом, болгарское государство, начавшее войну с Турцией при таких, казалось бы, благоприятных предзнаменованиях, пережило настоящую катастрофу.
А это было во всяком случае наиболее демократическое и наиболее культурное государство Балканского полуострова.
Но не только государство. Балканская народность, разрезанная между соседними государствами, теряет возможность своего дальнейшего культурного развития.
И этого мало. Население северовосточной Болгарии, уступленной румынам, переходит из государства, где оно пользовалось политическими правами и прежде всего правом голоса в народное собрание, из государства, признававшего полную национальную терпимость, в государство, издавна культивировавшее грубый зоологический национализм, жестоко преследовавшее инородцев, стремившееся насильственным образом их романизировать, и, что может быть, всего хуже, государство, лишенное всеобщего избирательного права даже в своем ядре. Подвластная же ему инородная Добруджа, на которую румыны смотрели, как на враждебную государственности, вовсе не имела представительства, и вряд ли можно надеяться, что новая территория будет поставлена в лучшие условия. Если Болгария всегда, даже в худшие времена стамбуловского деспотизма, была государством демократическим и мужицким, то Румыния является государством помещичьим, и болгарскому, турецкому и даже румынскому мужику, который из-под власти Болгарии переходит под власть Румынии, станет, конечно, гораздо хуже. Еще в июне месяце, т. е. задолго до заключения бухарестского мира, я слышал от многих людей из этой полосы земли, мелких торговцев и крестьян, притом даже от людей, принадлежащих к румынской народности, но болгарских подданных, выражение страха перед возможной отдачей их под власть аристократического румынского правительства. Тем более, такой страх должны были испытывать болгары и турки.
В не менее печальное положение попало население большей части Македонии.
Выиграли ли что-нибудь Сербия и Греция?
Как государства, бесспорно да. Их правительства будут иметь под своею властью гораздо более значительные территории, гораздо более многочисленное население, а также гораздо более удобные в торговом я стратегическом смысле границы. Но необходимость удерживать свою власть над чуждым и даже враждебным населением, необходимость готовиться к неизбежной или, по крайней мере вероятной в будущем новой войне, заставит их все силы тратить не на поднятие культурных условий жизни новых и старых земель, а на возвышение своих военных сил.
Но этого мало. Граница между сербскими и греческими владениями далеко не удовлетворяет обе стороны, и в особенности Грецию. Монастырь (Битолия) достался Сербии, а между тем, Греция очень настойчиво выражала на него претензии. Одно время перед самым заключением мира отношения межу Сербией и Грецией обострились настолько, что на македонском театре военных действий произошла даже форпостная стычка между греками и сербами. Казалась возможной война между Сербией и Грецией, война, которая была бы ярким художственным завершением художественной дельности всей этой печальной картины взаимных отношений балканских государств. Война была избегнута, может быть, потому, что и Сербия, и Греция истощены предыдущими войнами; но кто знает, не окажется ли она только отсроченной на время.
Сама Болгария, конечно, будет лелеять мечту о реванше и на нее истощать все свои жизненные силы.
Таким образом, бухарестский мир является шагом назад, а не шагом вперед в развитии народов Балканского полуострова; а кроме того он является в действительности только перемирием.
Несколько месяцев тому назад я, указывая на печальную ошибку, которую сделал кружок лиц с Кареевым, М. Ковалевским и другими во главе, выпустивших воззвание к обществу с призывом оказать братскую помощь союзным народам балканского полуострова, высказал следующее мнение:
«Вряд ли правы авторы воззвания в своей вере в то, что за народами останутся плоды их побед. Народы понесут тяжелые кровавые жертвы, это бесспорно; народы одержат победу, – это вероятно; но плоды побед достанутся, главным образом, дипломатиям, династиям, вообще кому-нибудь другому, но не народу; это почти несомненно»[5].
Это соображение, в особенности в своей последней части, оправдалось, к несчастью, в полной мере. Народы Балканского полуострова одержали победу, но ничего от этой победы не получили. Получили ли эту победу и в какой мере династии и дипломаты, это пока остается вопросом спорным.
В настоящее время, из Македонии отправилась депутация или делегация общественных деятелей, которая предполагает объехать европейские столицы с целью расположить правительства и общественное мнение различных держав в пользу несчастного македонского народа. К сожалению, судя по всему, что мы знаем, эта депутация,
Как челобитчик у дверейЕму не внемлющих судей,останется не выслушанной теми, от кого зависит удовлетворить её совершенно законные желания. Но пусть ее выслушает хотя бы русское общественное мнение, к несчастью, столь же бессильное, как и она сама.
10 Августа, 1912 г.Сноски
1
У чиновников, не бывших на войне и получающих свыше 4000 фр. в год, удерживалась треть их содержания. Чиновникам, взятым на войну, для содержания их семей выдавалась только одна треть жалованья. У чиновников, получавших менее 4000 фр., вычеты были менее значительными. Предполагалось, что эти вычеты есть не сокращение жалования, а заем, подлежащий уплате по окончания войны. В связи с мораториумом это значительное сокращение доходов бюрократии было одним из заметных в экономической жизни страны явлений.
2
О значении договора 29 февраля я подробно говорил в своей предыдущей статье.
3
«Ново Време» (орган «тесных») 1 авг. 1912 г. № 14. В той же статье, однако, из которой я заимствую приведенные, оказавшиеся пророческими словами, высказана также совершенно опровергнутая ходом дальнейших событий уверенность, что правительство только побряцает оружием и войны не начнет.
4
Я оставлю пока в стороне историю дипломатических переговоров, предшествовавших несчастной войне между вчерашними союзниками, а также крайне печальную, – что бы не употребить более сильного выражения, – роль России в ходе этих переговоров и последовавших затем военных действий.
5
Современник, 1912, № 11, стран. 339.