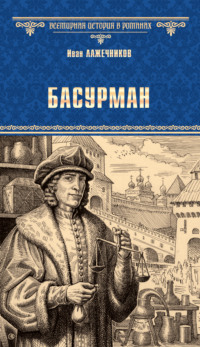полная версия
полная версияВнучка панцирного боярина
Пржшедиловский молчал.
– Досадно больно, однако ж, – сказал Людвикович, положивший важный куш на алтарь отчизны, – что наши же братья-поляки, узнав мою тайну, обнаруживают ее нескромными речами и расстраивают мои виды на богатую вдову. Уж и в Петербурге об ней узнали и возбудили некоторые, хотя и не опасные подозрения в таком месте, куда бы они не должны проникнуть. А я так было все хорошо устроил в доме Маврушкиной. Я у нее врачом, адвокат поляк, гувернер, учителя – тоже поляки. Недавно ввел я к ней досточтимого пана ксендза Б. И вдовушка и дети без ума от его вкрадчивых речей. Еще должен прибавить, что нескромность моих компатриотов вызвала наших эмиссаров к беспрерывным требованиям от меня денег. Одни пишут прислать им столько-то, другие столько. Вот и вчера получил я письмо из Петербурга о высылке 25 пар сереньких перчаток.
– Что ж из этого? Перчатки не Бог знает что стоят.
– Как будто нельзя найти серых перчаток в Петербурге! Могли бы распечатать письмо; ловкий комментатор смекнет, что не перчатки требуются, а 25 пар пятидесятирублевых серых кредиток. Слава Богу, письмо осталось в девственной оболочке, потому что было адресовано на имя одной русской паненки.
– Которая, не так как вдовушка, довольствуется пока одною платонической любовью. Пан уже два года ведет ее к алтарю и никак не доведет до сих пор, – подхватил пузатенький господин.
– Ха, ха, ха! – засмеялся воевода. – С одной стороны, деньги, с другой – важные услуги. Браво!
Насмеявшись вдоволь со своими собеседниками этой проделке, он продолжал прерванную речь.
– И так, мы будем вести в начале кампании войну гверильясов. Мое воеводство доставит до 30 тысяч повстанцев; расчислите по этой мерке, что дадут все губернии от Немана до Днепра, по крайней мере 200. Присовокупите к ним войска Франции, Англии, Италии и Швеции. Я получил из Парижа известие, что Мак-Магону велено поставить четвертую колонну на военную ногу. На берег Курляндии высадится десант из Швеции с оружием и войском, предводимым русскими знаменитыми эмигрантами.
– Изменники своему отечеству не могут быть надежными союзниками, – заметил Пржшедиловский.
– Мы должны пользоваться всеми средствами, какие предлагают нам обстоятельства, – возразил Жвирждовский. – Когда подают утопающему руку спасения, он не разбирает, чиста ли она или замарана. Хороши ваши правила во время идиллий, а не революций. Я говорил вам до сих пор, многоуважаемые паны, о наших средствах, теперь изложу вам ход наших действий. Первыми застрельщиками в передовой нашей цепи выйдут ученики Горыгорецкого земледельческого института, основанного недогадливыми москалями на свою голову в сердце Белоруссии. Студент Висковский, наименованный мною начальником места, и фигурус Дымкевич не дремлют; гнездо заговорщиков там надежно свито. Они ждут только моего пароля.
– Как бы этот фигурус и студенты не остались на одних фигурах! – сказал Пржшедиловский.
– Они выкинут такие, от которых задрожит земля русская.
– Жаль мне бедных детей, отторгнутых от науки, отторгнутых от семейств, чтобы положить неразумную свою голову в первом неравном бою; жаль мне бедных матерей, которым придется оплакивать их раннюю утрату.
– Оплакивайте их сами, пан Пржшедиловский, если у вас слезы вода, – сказал ксендз. – Наши матери ведь польки; они сами с благословением посылают своих детей на бой с врагами отчизны и, если их сыновья падут за дело ее свободы, поют гимны благодарности Пресвятой Деве.
– Прошу внимания, паны добродзеи, – произнес особенно торжественно Жвирждовский. – Пан ксендзу которого имеем счастье видеть между нами, самоотверженно покидает свою богатую паству в Москве и переселяется в лесную глушь Рогачевского уезда, в один из беднейших костелов губернии. Там его влияние будет полезнее, нежели здесь. Он стоит целого корпуса повстанцев. Его ум, его образованность, его увлекательное красноречие привлекут к нему все наше шляхетство и народ. Паны и паненки уже без ума от одной вести, что он к ним прибудет, и заранее готовятся усыпать его путь цветами и приношениями.
– Благодарим, благодарим, – закричали голоса.
– Великий миссионер нашей свободы!
– Да будет похвален пан ксендз в сем мире и в другом.
– Да воссядет на бискупскую кафедру в польском крулевстве!
Ксендз встал, приложил руку к сердцу и, покланившись собранию, произнес с чувством:
– Сделаю все, сыны мои, что повелевает мне отчизна и церковь наша.
– Теперь, – сказал Жвирждовский, – приступим к плану наших действий в обширных размерах. Нынешняя осень и будущая зима пройдут в приготовлениях к организации наших войск. Лучше тише, да вернее. С первым весенним лучем иноземная помощь прибывает с двух сторон – с одной чрез Галицию, с другой, как я сказал, десантом от берегов Балтийского моря. Русские войска достаточно подготовлены пропагандой и деморализованы, чтобы с прибытием союзников не желать долго упорствовать в удержании поголовно восставшей Польши. В это время Литва, в полном восстании, очищается от русских. Гвардии опасаться нечего: в рядах ее имеются друзья.{5}
– Не ошибитесь, – перебил оратора Пржшедиловский, – два-три офицера из поляков не составляют еще целого корпуса. Русская гвардия всегда отличалась преданностью своему государю и отечеству.
– Смешно! Сидя в своем темном уголке над канцелярскими бумагами, вы, кажется, хотите знать, что делается в политическом мире, лучше меня. Недаром вращаюсь я в тайных и открытых высших сферах.
– Кажется, пан Пржшедиловский est plus moscovite que les moscovites eux-mêmes,[9] – заметил, сардонически усмехаясь, ксендз Б.
– Замолчите же, ревностный пасынок России, – закричали голоса.
Пржшедиловский презрительно посмотрел на своих антагонистов.
– Я обстрелен пулями и ядрами, – сказал воевода, – так мне ли смущаться огнем холостых выстрелов! Кончаю. Отряды Сераковского со всех сторон подступают и берут Вильно. Относительно моего Могилевского воеводства: должно сперва временно отбросить – говорю: временно – малонадежные уезды: Гомельский, Климовский и Мстиславский, где, кажется, родился пан, мой оппонент.
– Точно так, – отозвался Пржшедиловский, – вы знали хорошо моего отца и мать.
– Они оказали мне некоторые услуги во время моего сиротства, – сказал покраснев Жвирждовский, – и если бы я их забыл, то давно не позволил бы вам говорить так самонадеянно.
Пржшедиловский взглянул вопросительно на хозяина.
– Позволить или не позволить никто здесь не имеет права, – гневно возвысил голос Стабровский, – у меня в доме пока нет особенного начальства; все мои гости равные и свободные от всякой диктатуры. Говорить и возражать имеет право всякий, кого имею честь видеть у себя. Вы сами это давеча объявили, пан Жвирждовский.
Стабровский, по отношениям Жвирждовского к брату, к матери и своему твердому характеру, не был такое лицо, которое можно было безнаказанно восстановлять против себя, и потому будущий воевода, проглотив горькую пилюлю, просил у него извинения за слова, сказанные в патриотическом увлечении. Наконец, он приступил к финалу своей заученной речи, сначала несколько тревожным голосом, потом все более и более воодушевляясь:
– Прочие уезды поднимаются с помощью быстро сформированных жондов на берегах Днепра. Тогда, подчинив решительно своей власти все воеводство, устремляемся в Рославский уезд Смоленской губернии. При общем настроении умов в России, обработанных польской пропагандой в учебных заведениях, тайною, зажигательною литературой и прочее и прочее, с появлением повстанцев на Днепре мы, несомненно, тотчас присоединяем губернии: Смоленскую, Московскую и Тверскую и беспрепятственно доходим до Волги. Там, на правом берегу, водружаем наше польское знамя. В этом я ручаюсь вам гонором своим и головой. Разумеется, мы будем только авангардом великой армии союзников. Таким образом, явясь в начале апреля на берегу Днепра, мы избегнем ошибки Наполеона, погубившей его в двенадцатом году. Он привел только к осени в Москву войско, утомленное сражениями и походами. Ему лишь стоило остановиться на зимних квартирах в западных губерниях и, подобно нам, двинуться уже следующей весной во внутренность России.
– Умно, гениально задуманное дело, – закричали офицеры. – Виват, пан Жвирждовский!
– Ваше имя не умрет в потомстве, пан воевода, – прибавил кто-то.
Пржшедиловский молчал, потому что на такую заносчивую, шарлатанскую речь нечего было возражать.
– Выгоднее было бы спуститься по Днепру в Киев, – сказал пан Суздилович, шевеля усиками, – и там подписать приговор России.
– Нет, нет, – закричали некоторые из заговорщиков.
– Позвольте объяснить, – просил Суздилович, задыхаясь.
– Нет, нет, – кричали еще громче несогласные с его мнением.
– Позвольте.
– Не позволяем.
Шум возрастал, так что пан в колтуне, продремавший большую часть заседания, проснулся и со страхом озирался.
– На голоса, паны, – сказал Стабровский.
Согласились.
Голоса все были в стороне воеводы.
– Остается нам узнать от вас, панове, – спросил Жвирждовский, – какие обязательства вы на себя принимаете?
– Я не могу отлучиться от своей должности, ни от особы, которая так щедро доставляет мне средства поддерживать польское дело, – сказал опекун богатой вдовушки.
– Добрже, пан.
– Я также собираю здесь офяры и обязан доставлять вам их лично, как мы условились, – отозвался другой.
– Согласен.
– Я учитель, – сказал третий, – и мое дело обрабатывать здешнее юношество.
– И то очень, очень полезно для нас.
– Вы, пан? – громко спросил воевода помещика в колтуне, опять задремавшего.
Тот протер себе глаза и отвечал:
– Я уж вам сказал, что снаряжаю сто повстанцев, одеваю и содержу на свой счет.
– Прекрасно!
Офицеры вызвались явиться по первому призыву в отряд Владислава Стабровского, которому, как военные могли быть полезны в организации повстанцев.
Студенты объявили то же.
Одобрено.
– Я жертвую на первый раз пять тысяч… – успел только произнести пузатенький господин.
– Рублей серебром, – подхватил один из студентов.
– Злотых, – сердито договорил Суздилович. – Если бы вы не перебили меня, я сказал бы рублей.
– Вы богаты, пан, – заметил Жвирждовский, – могли бы больше…
– Обязываюсь вносить ежегодно столько же в кассу жонда, пока продолжится война.
– Пан надеется на троянскую войну, – заметил студент.
И все засмеялись.
Задетый этим смехом за живое, Суздилович самоотверженно объявил, что он обязывается сверх того проливать кровь свою за отчизну в отряде Владислава Стабровского.
– В некотором роде, – прибавил Пржшедиловский, хорошо знакомый с русской литературой.
– Я буду работать этим кинжалом в отряде пана Владислава, если он пожертвует его мне, – зыкнул Волк, – и не положу охулки на руку.
– Вам давно нравится этот кинжал, – сказал Стабровский, – хотя это подарок матери, он не может перейти в лучшие руки, чем в ваши.
Волк обнял Владислава. Лишь только бросился он к кинжалу и задел этим движением стол, гибкая сталь еще жалобнее прежнего заныла. Вынув мускулистой рукой глубоко засевший клинок, он поцеловал его.
– А вы, пан Пржшедиловский? – спросил воевода.
– Безрассудно было бы мне покинуть на произвол судьбы жену и двух малолетних детей; не могу жертвовать и деньгами, потому что я беден и только своими трудами содержу семейство свое.
– Но вы можете быть полезны, распространяя в обществах и между своими сослуживцами вести, благоприятные для польского дела, подслушивая, что говорят между ними опасного для этого дела, и нас уведомляя.
– Разве для того пан примет эту обязанность, чтобы вредить нам, – отозвался кто-то.
– Вот видите, – сказал Пржшедиловский, – и я на низкую роль шпиона не гожусь, а потому здесь лишний и удаляюсь.
– Лучше искренний враг, чем двусмысленный друг, – проворчал воевода.
– Ни тот ни другой, – холодно отозвался Пржшедиловский.
Он успел только проговорить, как вбежал в кабинет Кирилл и доложил своему господину, что к хозяйке приходил квартальный и спрашивал ее, почему у пана такое большое сборище поляков.
При этом известии у многих вытянулись лица; Суздилович собирался уже утечь в спальню хозяина.
– Не тревожьтесь, – сказал Владислав спокойным голосом, – я уж научил панну Шустерваген объявить любопытным, что мы провожаем русских офицеров в Петербург. Впрочем, хозяйка умеет ладить со здешними аргусами.
Все успокоились.
Пржшедиловский взял шляпу и, отведя Владислава в сторону, тихо сказал ему:
– Прощай, друг, я не останусь у тебя завтракать. Боюсь, чтобы твои гости, упоенные добрым вином и торжество будущих своих побед не вздумали оскорблять меня за то, что я не согласен с их шарлатанством. Меня дома ждут жена и дети, и я в кругу их отдохну от всего, что здесь слышал и видел.
Владислав не настаивал, но вызвался проводить друга своего в коридор.
Здесь они остановились. Пржшедиловский крепко пожал ему руку и, видимо, тронутый, сказал, покачав головой:
– Et toi, Brutus?[10] И в этом сумасбродном обществе?..
– Разве я не вижу, что они безумствуют, что все их планы не более, как мираж? Но я решился покончить так или сяк со своей судьбой. Для меня все равно, погибнуть ли в обществе рассудительных людей или безумцев.
– А Елизбета? Я надеялся, что ты будешь с нею счастлив по-моему.
– Не мне суждено это счастье. Она отвергла мою любовь; у нее есть жених. Я зол на нее, зол на отца ее, на всех русских. Польское имя здесь в презрении.
– Безрассудный!
– Все кончено. Прощай, друг, мы, может быть, больше не увидимся.
Слезы навернулись на глаза обоих. Они горячо обнялись и расстались.
– Слава Богу, тринадцатый выбыл из нашего общества, – сказал Суздилович, – за столом этого рокового числа не будет.
– Ну его к диаблам! – сердито прибавил Жвирждовский.
Клятва, установленная высшим трибуналом жонда, была произнесена членами общества, принявшими на себя, каждый по средствам своим, обязанности служить делу отчизны.
– Теперь, панове, мы сыты по горло духовными требами, примемся здесь за утоление голодных телес наших, – провозгласил хозяин.
Суздилович, любивший хорошо покушать, от радости то потирал себе руки, то похлопывал себя по пустому брюшку.
Спешили с завтраком. К трем часам стол был сервирован, блюда подавались избранные, вино лилось в изобилии, Кирилл и три хорошенькие девушки прислуживали за столом не хуже татар Дюссо. Было много тостов на французском языке, непонятном прислуге. Пили дружно за свободу отчизны, великих союзников, за Чарторижского, Мерославского, Сераковского, воеводу могилевского, хозяина, отсутствующих пулковников, был тост в честь польского знамени, водруженного на правом берегу Волги. Особенно воевода и ксендз соперничали друг перед другом в осушении бокалов. Владислав по временам задумывался, но старался залить вином огонь, его пожиравший.
Все гости уже встали из-за стола, отяжелевшие от изобилия вин и яств, они посели и полегли в разных позах на диванах, кушетках и креслах, кто дремля, кто болтая всякий вздор, кто закурив сигару.
Исчезли следы завтрака, женская прислуга была отпущена, оставался один Кирилл за своей перегородкой, отправлявший в свой желудок остатки кушаньев.
Послышался звонок, и вслед за его дребезжащим звоном влетела в кабинет, шурша своим длинным шелковым шлейфом, молодая дама, блистая красотой, парою обворожительных глаз и алмазами, сверкавшими на ее груди и в ушах. Она была в трауре, скрашенном некоторыми туалетными принадлежностями национального цвета. При появлении ее все спешили оправиться и встать со своих мест.
– Виват, панна N. N! – громогласно раздалось по комнате.
– Шт, – прошептала она, положив палец на свои розовые, соблазнительные губки, потом прибавила очаровательным голосом. – Я знала от пана Жвирждовского, что вы собираетесь здесь для великого дела Польши. Простите великодушно, что не могла быть с вами вовремя, занята была по этому же делу. Уверена, что вы все исполнили свой долг. Я приехала к вам на несколько минут, чтобы положить и мою офяру на алтарь отчизны.
Она развернула большой сверток, который держала в руке. Это было знамя с богатыми золотыми украшениями и изображением на нем одноглавого белого орла, державшего в своих когтях черного двуглавого. Сверху была надпись: «Za niepodległość ojczyzny»[11], а над ней Пресвятая Дева в сопровождении папы, благословляющие коленопреклоненных перед ними воинов в старопольском вооружении.
– Я приношу это знамя легиону могилевского воеводы Топора (пана Жвирждовского), – сказала красавица, – вы знаете, что я после смерти мужа до сих пор отказывала в руке моей всем ее искателям. Тот, кто водрузит это знамя на куполе смоленского собора, хоть бы он был не лучше черта, получит с этой рукой мое богатство и сердце. Клянусь в том всеми небесными и адскими силами.
– Виват, панна N. N! – закричали восторженные голоса.
– Нас принесут мертвыми к вашим ногам на этом знамени, – сказал Жвирждовский, – или с этим знаменем в руке, но только с прибавкой на нем новой надписи: «развевался на главе Ивана Великого».
– Клянемся, клянемся! – подхватили другие.
– Теперь, пан Стабровский, мне бокал шампанского за успех нашего общего дела и за здоровье присутствующих и отсутствующих освободителей Польши.
На поверхности бокала, стремительно налитого усердной рукой, образовалась пенистая коронка, метавшая от себя искорки. Жвирждовский подал ей на маленьком серебряном подносе, преклонив перед ней, как рыцарь перед дамой своего сердца, одно колено. Обведя бокалом все собрание, она молодцевато осушила его.
– Теперь за здоровье панны, перед которой вся Польша должна преклонить колени; только не из бокала, а из ее башмачка! – воскликнул Жвирждовский.
Красавица ловко скинула башмак с крошечной своей ножки и передала его воеводе. Шампанское было в него налито, и пошла круговая ходить при оглушительных виватах.
Когда панна надевала башмак на ногу, кто-то заметил, что она может простудиться.
– Женщины, в которых течет польская кровь, не простуживаются, когда сердце их согрето патриотизмом друзей, – отвечала панна, и распростилась со своими восторженными поклонниками. – Не могу дольше оставаться с вами, – прибавила она, – дала слово быть в этот час в одном месте, где должна поневоле кружить головы москалям.
«Я знаю одну подобную ножку у русской красавицы, – подумал Владислав, настроенный вином и прошедшей сценой к чувственным впечатлениям. – О! эту ножку я обсушил бы своими поцелуями!»
К шести часам вечера заговорщики разошлись все по домам, иные спеша уехать по своему назначению, другие желая поспеть к отъезду Жвирждовского со своими услугами.
V
Сурмин, посещая по временам Ранеевых, выигрывал все более и более в сердце старика. Михайло Аполлоныч угадывал, что Лиза сделала на него сильное впечатление, и почел бы себя счастливым, если бы мог назвать его членом своего семейства. Лиза находила удовольствие в его обществе, в его беседах, нередко спорила с ним, радовалась, когда успевала над ним торжествовать, находила его добрым, умным, любезным, достойным составить счастье девушки, с которой соединил бы он свою судьбу. Но, к отчаянию своему, влюбленный молодой человек в ее речах и обращении с ним не находил до сих пор того, что можно было бы признать за чувство, которого добивался. Кокетства, желания завлечь его сильнее в свои сети он также не находил даже малейших следов.
У Ранеевых он познакомился с новою интересной личностью, Антониной Павловной Лориной. Это была сестра хозяина дома, в котором они квартировали, и самая задушевная подруга Лизы. Тони передавала она свои радости и печали, свои тайны, кроме одной, которую поверила только Богу. Чтобы короче познакомить читателя с этим новым лицом, я должен отступить от начатого рассказа.
Павел Иваныч Лорин, уйдя с военной службы гвардейским капитаном, был избран в губернии, где имел прежнее поместье, совестным судьею и в этой должности приобрел себе доброе имя. Пробыв в ней два трехлетия, он распростился с нею и губернией и переселился в Москву, где его жена по случаю купила на свои деньги и имя небольшой дом на Пресне. По приезде сюда у них были три сына и три дочери, от четырех до пятнадцати лет. Здесь поручили старших воспитанию русской гувернантки, девицы Фундукиной, вышедшей из казенного заведения кандидаткой 1-го разряда. И недаром досталась ей пальма первенства. Она отлично знала языки: французский и немецкий, была непогрешима и против грамматического кодекса русского; помимо этих знаний владела некоторыми искусствами – хорошо рисовала, изучила музыкальную школу и была истинною художницей в каллиграфии. Все, что знала, она умела и передать своим ученикам и ученицам. Прибавьте к этим достоинствам доброе обращение с ними, заботы о здоровье матери и детей, и вы согласитесь, что такая воспитательница была истинным кладом для Лориных. За то и платили они ей полным доверием, теплою благодарностью и любовью.
Скоро, по болезни Лориной, Фундукина приняла в свои руки и бразды домашнего хозяйства. И тут у нее все спорилось, удивлялись только, как ее хватало на такие разнородные занятия. Благодетельное ее господство, которое она старалась скрасить вкрадчивыми услугами чете и добрым обращением с прислугой, простиралось на все, ее окружавшее. Пользуясь привязанностью к ней госпожи Лориной и некоторыми признаками минутного увлечения мужа, она стала забрасывать в его душу разные зажигательные вещества, на которые кокетки так изобретательны. Назвать ее хорошенькой нельзя было, но, с одной стороны, молодость (ей было с небольшим двадцать лет), свежесть, румяные щечки, из которых кровь, казалось, готова была брызнуть, девственные формы, искусная работа сереньких глаз, то бросающих мимоходом на свою жертву меткие стрелы, то покоящихся на ней в забытьи сладострастной неги; с другой же стороны жена, давно больная от испуга после родов во время пожара, – все это приготовило капитана к падению. Лорина, ослепленная новыми, усиленными заботами о ней Фундукиной, ничего не подозревала. Не скрылась эта связь от прислуги, даже дети смутно понимали ее. Нашелся, однако ж, усердный член дворового штата женского пола, который потрудился открыть глаза своей госпоже. Удар был силен, но несчастная женщина ни одним словом, ни одним знаком не обнаружила мужу и гувернантке, что знает роковую тайну. Между тем она с каждым днем гасла все более и более и, наконец, совсем угасла, как огонь в лампаде, который перестал питать поддерживающий его елей. Дети оплакали ее горячими слезами, плакал муж, но кто видел, как он в эти горячие минуты охорашивался в зеркале, как будто говоря: «Хоть куда еще молодец!» – мог догадаться, что они не текли из глубины души. Поплакала притворно и гувернантка, мысленно предвидя приятную развязку этой драмы. Развязка эта не заставила себя долго ждать. Через три-четыре месяца Лорин повел свою бывшую тайную подругу к венцу. Скоро новая madame Лорина, как артистка, искусно разыгравшая свою роль и сошедшая со сценических подмостков, явилась перед семейством мужа и домочадцами в безыскусственном виде. Здесь она не имела более нужды скрывать свои природные качества. Все вокруг нее почувствовали, что жезл, которым она прежде так легко и благотворно правила, вдруг чувствительно отяжелел. Если он обвивался иногда цветочною вязью, так только для Павла Иваныча, и то в часы, когда нужно было выманить у него подарок, выходящий из ряда обыкновенных. У него, как мы уже сказали, было хорошенькое поместье в губернии, где он прежде служил. Боясь, чтобы оно после смерти настоящего владельца не перешло к его законным наследникам по частям, а ей пришлась бы только ничтожная доля, она сочла за благо воспользоваться им без раздела и потому уговорила мужа продать его. Полученные за имение деньги перешли на ее имя билетами опекунского совета. Прочее движимое имущество завещано ей законным актом. Корыстолюбие ее не знало границ и проявлялось даже в мелочах. С годами у нее появились свои дети; тех же, которые были от первой жены, она держала в загоне. Их поместили отдельно в небольшие комнаты мезонина, худо отапливаемые, иногда через день, через два, так как Лорина находила, что все тепло снизу уходит к ним наверх. Обращение с ними было не только холодное, но и суровое. Если они и удостаивались ее лицезрения, так для того только, чтобы приветствовать отца и мачеху с добрым утром и пожелать им на сон грядущий спокойной ночи, да приложиться к их ручке. Не обходилось, однако, при этих торжественных приемах, чтобы она не бранила кого-нибудь из пасынков или падчериц. Больше всех доставалось Тони, которую она особенно не любила за то, что обидчивая девочка не всегда подчинялась ее деспотизму.
– Ce petit lutin me fouette toujours le sang,[12] – говорила она мужу и посторонним.
Дети от первого брака не обедали с ней и отцом за общим столом; кушанья, и те в обрез, подавали в их отделение, как подачку со стола господ. Сама чета с новым выводком комфортабельно жила в бельэтаже. Но и между детьми своими, которых через несколько лет насчитывала также до шести, госпожа Лорина имела двух любимцев-баловней – старшую дочь и старшего сына, остальных она не жаловала. Особенно не терпела одного, Петю, последыша, как говорят у нас в народе, обыкновенно больше других любимого отцом и матерью, бабушкой и дедушкой. Этого худенького, слабого ребенка она беспрестанно преследовала своими гневными придирками, бранью и даже побоями. Встал не так, взглянул не так, – и тяжелая рука ее падала на худые щечки, на голову малютки. Это была какая-то непонятная ненависть к нему, не смягчаемая ни его покорностью, ни видом болезненного состояния. Бедное, загнанное, забитое дитя дрожало от одного ее появления, от одного взгляда. Только в защите отца, вспыхивавшей в редкие минуты самостоятельности, в горячих ласках, украдкой расточаемых, на груди его находил Петя кое-какие жизненные силы. Так, хрупкая былинка, едва держась в земле иссыхающим корешком сохраняется еще нежными заботами садовника.