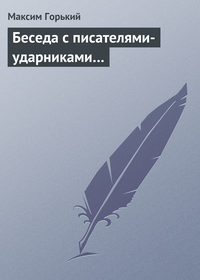полная версия
полная версияО вреде философии
Евреиновы – мать и два сына – жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из маленьких кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая себя самое?
Была она молчалива; в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои; – тащит лошадка воз в гору, и знает – не вывезу, – а все-таки везет.
Дня через три после моего приезда, утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:
– Вы зачем приехали?
– Учиться, в университет.
Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба. Она порезала ножом палец себе, высасывая кровь опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:
– О, чорт…
Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:
– Вы хорошо умеете чистить картофель.
Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:
– Вы думаете – этого достаточно, чтоб поступить в университет?
В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.
Она вздохнула:
– Ах, Николай, Николай…
А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый.
– Мама, хорошо бы пельмени сделать.
– Да, хорошо, – согласилась мать.
Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо плохо, да и мало его.
Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами:
– Не в духе.
Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще – нервнее мужчин, таково свойство их природы, – это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется швейцарцем. Джон-Стюарт Милль, англичанин, или кто-то другой, тоже говорил кое-что по этому поводу.
Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фуко, Лярош-Фуко и Лярош-Жаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье – Дюмурье, или – наоборот? Славный юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне это, но – у него не было времени и всех остальных условий для того, чтобы серьезно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство; еще менее чувствовал это его брат, тяжелый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить – неизвестно за что – приблудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне, – я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду – отсиживался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет – фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не мне только одному.
Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, – я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, – и чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаст его сопротивление окружающей среде.
Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать – двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, – я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли, – каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество «бульварных» романов еще более возбуждали мои симпатии к этой среде.
Профессиональный вор Башкин, бывший ученик Учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:
– Что ты, как девушка, ежишься, али честь потерять боязно? Девке честь – все ее достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он – сеном сыт.
Рыженький, бритый точно актер, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо»:
– В этой книге есть и цель и сердце, – говорил он.
Любил женщин и рассказывал о них вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту. Баба, баба! – выпевал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. – Ради бабы я – на все пойду. Для нее, как для чорта – нет греха! Живи влюблен, лучше этого ничего не придумано.
Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, – его песни распевались во всех городах Волги, и – между прочим – ему принадлежит широко распространенная песня:
Не красива я, бедна,Плохо я одета,Никто замуж не беретДевушку за это…Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого.
– Ты, Максим, к воровским шалостям не приучайся! – говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. – Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.
– Что значит – духовный?
– А – в котором зависти нет ни к чему, только любопытство…
Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом, с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:
– Мутноокой ночью сижу я – как сыч в дупле – в номерах, в нищем городе Свияжске, а – осень, октябрь, ленивенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет – без конца песня: о-о-о-у-у-у…
…И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах обманная чистота души. Милый, – говорит честным голосом, – не виновата я против тебя. Знаю – врет, а верю – правда. Умом – твердо знаю, сердцем – не верю, никак.
Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто, мягким жестом касался груди своей против сердца.
Голос у него был глухой, тусклый, а слова – яркие, и что-то соловьиное пело в них.
Завидовал я Трусову, – этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев и однажды таинственно сказал о царе Александре III:
– Этот царь в своем деле мастер!
Трусов казался мне одним из тех «злодеев», которые в конце романа – неожиданно для читателя – становятся великодушными героями.
Иногда, в душные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще – о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, а особенно много – о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда – трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две – три ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья жилы – это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов; надсадно, волками, воют матросы на караване барж; где-то бьет молот по железу; заунывно тянется песня, – тихонько тлеет чья-то душа, – от песни на сердце пеплом ложится грусть.
И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей, – люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка – не жадно – пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.
– А вот со мной был случай, – говорит кто-то придавленный к земле ночною тьмой.
Выслушав рассказ, люди соглашаются:
– Бывает и так, – все бывает…
«Было», «бывает», «бывало» – слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни – все уже было, больше ничего не будет.
Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но все-таки – нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если б я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против «священного института собственности». Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, итти по которой я был обречен. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов я уже прочитал немало серьезных книг, – они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел.
И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них – Гурий Плетнев. – Смуглый, синеволосый как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом, неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, – он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике; не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам, – очень отвечали измятая, рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые, стоптанные сапоги.
Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы – все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье – он прыгал по земле, как ракета-шутиха.
Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, веселой трущобе – «Марусовке», вероятно знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна – стол, стул и это – все. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем, – сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета.
Он питался, кажется, только собственными ногтями, объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но из-за жалости подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он, открывая дверь, хрипел в коридор:
– Хлеба!
В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец, с вывернутой ногою, в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика.
– А я говорю – тюрьма! Геометрия – клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!
Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:
– К чорту! Вон!
Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, – математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:
– Эвклид – дурак! Дур-рак… Я докажу, что бог умнее грека…
И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.
Вскоре я узнал, что человек этот хочет, исходя от математики, доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.
Плетнев работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, – нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться «слишком рано» и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места, – по возрасту.
Плетнев и я спали на одной и той же койке, – я – ночами, он – днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром; я тотчас бежал в трактир за кипятком, – самовара у нас, конечно, не было; потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика фельетониста «Красное домино» и удивлял меня шутливым отношением к жизни, – мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.
У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за «квартиру» ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрою на гармонике и трогательными песнями, когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы и обжоры, обильно катились мелкие слезинки; она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.
– Ах, Гурочка, – вздыхая, говорила она, – артист вы! И будь вы чуточку покрасивше – устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает в одинокой жизни.
Один из таких «юношев» жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего скорняка, парень среднего роста, широкогрудый с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, – ступни ног студента были маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо таращились выпуклые, зеленоватые глаза.
С великим трудом, вопреки воле отца, голодный, как бездомная собака, он исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.
Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, – сын у нее был уже студент на третьем курсе, дочь кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие, серые глаза, скрытые в темных ямах, одета она в черное платье, в шелковую старомодную головку, в ее ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зеленого цвета.
Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я с Плетневым не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось нам страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты и обреченно, тоскливо смотрят вперед, но – кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо.
– Смотри, – сказал Плетнев, – точно безумная!
Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его точно безжалостный кредитор или шпион.
– Сконфуженный человек я, – каялся он, выпивши. – И – зачем надо мне петь? Ведь с такой рожей и фигурой – не пустят меня на сцену, не пустят!
– Прекрати эту канитель! – советовал Плетнев.
– Да. Но жалко мне ее! Не выношу, а – жалко! Если бы вы знали, как она – эх…
Мы – знали, потому что слышали как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, умоляла глухим, вздрагивающим голосом:
– Христа ради… голубчик, ну – Христа ради!
Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.
После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной «требухи», мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.
Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам «Марусовки», присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень тесно набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам, прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел, – непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и – возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:
– Зачем все это?
Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, – за эти зубы прозвали его «Рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами и заявлял всем и каждому:
– Жив быть не хочу, а – разорю их в дребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, – после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: – что, черти? То-то!
– Это – цель твоей жизни, Конь? – спрашивали его.
– Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу.
Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом шумные пиры, приглашая студентов, швеек, – всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам «Рыжий конь» пил только ром, – напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темнорыжие пятна; – выпив, он завывал:
– Милые вы мои птицы! Люблю вас – честный вы народ! А я – злой подлец и кр-рокодил, – желаю погубить родственников и – погублю. Ей богу! Жив быть не хочу, а…
Глаза «Коня» жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям, – шаровары его всегда были в масляных пятнах.
– Как вы живете? – кричал он. – Голод, холод, одежа плохая, – разве это – закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете…
И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:
– Кому денег надо? Берите, братцы!
Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:
– Да, это не вам! Это – студентам.
Но студенты денег не брали.
– К чорту деньги! – сердито кричал сын скорняка.
Он сам, однажды, пьяный, принес Плетневу пачку десятирублевок, смятых в твердый ком и сказал, бросив их на стол:
– Вот – надо? Мне – не надо…
Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал так, что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно: они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтобы отделить одну от другой.
В дымной, грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома – тесно и душно, шумно и кошмарно. «Конь» орет всех громче. Я спрашиваю его:
– Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?
– Милый – для души! Тепло душе с вами…
Сын скорняка подтверждает:
– Верно, Конь! и я – тоже. В другом месте я бы пропал…
Конь просит Плетнева:
– Сыграй! Спой…
Положив гусли на колени себе, Гурий поет:
Ты взойди-ко, взойди, солнце красное…
Голос у него мягкий, проникающий в душу.
В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн.
– Хорошо, чорт! – ворчит несчастный купчихин утешитель.
Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой – веселье, играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось двадцать лет, по внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше – любили его, похуже боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой.
Двор «Марусовки» – «проходной», поднимаясь в гору, он соединял две улицы: Рыбнорядскую со Старо-Горшечной; на последней, недалеко от ворот нашего жилища приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча.
Это – старший городовой в нашем квартале; высокий, сухой старик, увешанный медалями, лицо у него – умное, улыбка – любезная, глаза – хитрые.
Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей, несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе, шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя Зоологического сада в клетки зверей. Зимою, в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры участники Ахал-Текинской экспедиции Скобелева; арестовали их, – а также Зобкина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию. А однажды ночью был схвачен жандармами длинный, угрюмый житель, которого я прозвал «Блуждающей колокольней». Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне:
– Вот что, Максимыч, тридцать семь чертей, беги, брат, скорее…
Объяснив, куда нужно бежать, он добавил:
– Смотри – осторожнее! Может быть, там сыщики…
Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами; он лудил кастрюлю, но – был не похож на рабочего. А в углу, у тисков, возился, притирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах.
Я спросил медника:
– Нет ли работы у вас?
Старичок сердито ответил:
– У нас – есть, а для тебя – нет!
Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу, – он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидав, что я подмигиваю ему, сказал спокойно:
– Ступай, ступай…
Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице; кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу:
– Вы – Тихон?
– Ну, да!
– Петра арестовали.
Он нахмурился, сердито щупая меня глазами.
– Какого это Петра?
– Длинный, похож на дьякона.