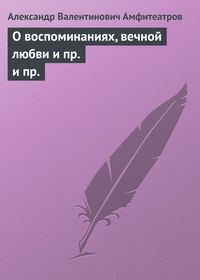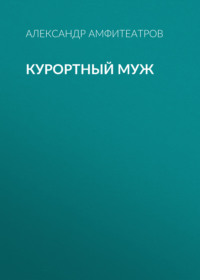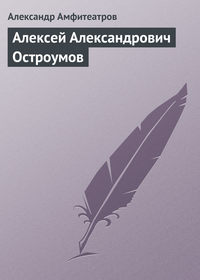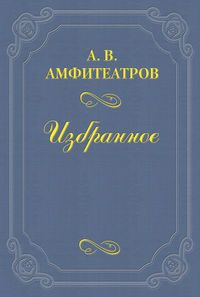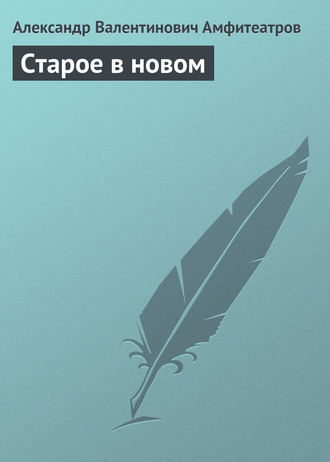 полная версия
полная версияСтарое в новом
Неурожаи, приковывая к себе весь интерес голодного полудикаря, заставляли его невольно искать ближайшую причину бедствия в служителях стихийным духам, в волхвах и волшевицах. Да и не одни полудикари в это верили. Вот голос, раздавшийся в 1484 году, с высоты папского престола, из уст Иннокентия VIII: «Множество людей обоего пола не боятся вступать в договоры с адскими духами и посредством колдовства делают неплодными брачные союзы, губят детей и молодой скот, истребляют хлеб на нивах, виноград и древесные плоды в садах и траву на пастбищах». Булла Иннокентия VIII, как известно, дала могучий толчок к вековому торжеству пагубного суеверия: запылали костры ведьм и колдунов, потянулись бесчисленные ведовские процессы. Средневековые судьи разобрали вопрос о возможности зловредно управлять стихиями с удивительною подробностью, con amore. Но ещё того подробнее разложили этот вопрос – на голодный желудок – по мелочам полудикари простонародья, в чьих головах, хоть и смутно, а всё ещё бродили старые языческие воспоминания. Приносить неплодие и голод стало считаться основным началом и целью колдовства. В Бамберге было казнено 1.200 человек, в том числе первые лица епископства, после того, как сознались в намерении произвести такой неурожай, «чтобы в течение 4 лет во всей стране погиб весь хлеб и всё вино, так что люди от голода съедали бы друг друга» (1629). Шутка девочки, которая, слушая жалобы отца на засуху, вызвалась наколдовать ему дождь, – и надо же быть такому несчастью, чтобы действительно разразилась страшная гроза с ливнем и градом! – стоила в 1615 году жизни тысячам женщин Венгрии: отец донёс на дочь, дочь – на мать, мать оговорила дюжину соседок, те – тоже, каждая назвала столько имён якобы сообщниц, сколько вспомнилось со страха и т. д. и т. д. Народная фантазия нашла и прямую корысть – из-за чего колдуны и ведьмы производят свои – бессмысленные, казалось бы, – опустошения. В первой половине IX века Агобар, лионский епископ, записал такую сказку: «Есть некая страна, именуемая Магония, из коей приходят на облаках корабли; воздушные пловцы забирают зерновой хлеб и другие плоды, побитые градом и вихрями, уплачивают за них чародеям, вызывающим бури, и увозят в своё царство». Сам Агобар смеётся над этою сказкою, как над глупостью, но жалуется, что знает многих, «одержимых таким безумием».
На Руси, к чести духовенства восточного, вера в ведовское ограбление урожаев и преследование колдунов не пользовались покровительством церкви даже в древнейшие времена христианства. Задолго до Вейера и Беккера, первых заступников мнимых колдунов, тысячами погибших на кострах инквизиции, Серапион, епископ владимирский, увещевал свою паству: «Еще поганскаго обычая держитесь, волхованію веруете и пожигаете огнемъ невинныя человеки и наводите на весь міръ и градъ убійство… Отъ которыхъ книгъ или отъ кихъ писаній се слышасте, яко волхованіемъ глади бываютъ на земли и пакы волхованіемъ жита умножаются?» Разница отношения духовенства к колдовству в средневековой Европе и на Руси, может быть, отчасти обусловливалась именно тем обстоятельством, что наше, как начало новое в стране, ещё не торжествующее, а только завоёвывающее себе положение, само неоднократно попадало у своей безграмотной паствы в волхвы и, в этом качестве, испытало на собственном примере, каково это сладко, когда неповинного человека гонят ни за что, ни про что «аки злодея пьхающе».
Серапион произнёс свою проповедь, возмущённый размерами, какие приняли человекоубийственные преследования женщин, обвиняемых в похищении дождей и земного плодородия. Он с порицанием указывает на обычай испытания водою женщин, заподозренных в порче урожаев, – обычай, к сожалению, доживший в глухих углах как нашего отечества, так и Европы, без различия национальностей, до наших дней. Обвиняемую в колдовстве связывают крестообразно: левую руку с правою ногою, правую руку с левою ногою, и бросают в реку. Если держится на воде – ведьма: если тонет – не ведьма. В 1827 году такими испытаниями занимались карпатские горцы; в 1834 г. в Грузии был неурожай на кукурузу и пшено: колдунов бросили в воду, пытали на дыбе, жгли раскалённым железом; то же самое повторилось в пятидесятых годах. В 1839 году засуха дала повод расправиться с ведьмами по тому же образцу в Полтавской губернии. В 1875 году на Полесье мужики в одном селе, по совету стариков и старосты, задумали испытать ведьм водою и просили помещика, чтобы он позволил «покупать баб» в его пруде. Когда помещик отказал, все женщины села были подвергнуты осмотру через повивальную бабку, нет ли у которой из них хвоста. Трёх баб, оговорённых повитухою по недоброжелательству, посадили под арест и представили становому. Тот, конечно, освободил их. Засуха 1880 года едва не стоила жизни трём бабам деревни Пересадовки Херсонской губернии. Их сочли за колдуний, держащих дождь. Бедным женщин насильно купали в реке, пока они, чтобы спасти свою жизнь, не указали, где они «спрятали дождь». Староста с понятыми вошёл в показанную избу и в печной трубе нашёл замазанное «гнездо» с двумя напильниками и запертым замком. Находка доказывает, что ведьмы были не умнее своих гонителей и, действительно, пробовали колдовать. Завязанный узел, запертый замок – старинный и повсеместный магический символ задержки плодородия: жатвы уничтожают закрутом, браки делают бесплодными, замыкая замок и забрасывая его, куда глаза глядят, с известным колдовским приговором. В Польше жгли старых баб не только при засухах, но и когда придётся – на всякий случай, чтобы застраховать себя от будущих засух и градобитий. А в старой Москве, когда после погибели Лжедмитрия I, ударили в мае безвременные морозы, пагубные для посевов, народ не нашёл лучшего средства обеспечить урожай, как сжечь труп «Гришки Еретника» и пепел развеять по ветру пушечным выстрелом.
История Гришки Отрепьева приводит нас к другому отделу языческих суеверий в христианстве: к вампиризму. Упырям, вовкулакам и т. п. иные мифологи усиленно старались придать значение стихийных сил; в увлечении стихийною теорией, Афанасьев додумался до такой изощрённой тонкости, будто вампиры – молниеносные духи, которые замирают на зиму в тучах, чтобы сосать весною живоносные соки возрождённой земли. Гораздо проще видеть в этом страшном порождении народной фантазии образ тех грозных моровых поветрий и голодовок, которыми были так часто удручаемы древность и средние века, особенно в германских и славянских землях (Тейлор). Упырь поедает сперва своих родных, а потом уже принимается за посторонних и не успокоится, пока не уморит всего села, а если кто чужой заедет потом, и того съест непременно. Разве это не совершенно точный образ появления эпидемии, последовательного распространения её от первого заражённого и способности долго держаться в одной местности? Так как мор был, в большинстве случаев, последствием голодовок, то народная фантазия снабдила упыря неукротимою алчностью: если ему нечего и некого есть, он грызёт дерево гроба, саван, свои руки. «есть хочу!» – его постоянный вопль. Вампир – это образ голодного тифа, постоянного бича славянской старины: вечный голод, разносящий повсеместную смерть! Описание наружности упыря, как представляет его народ: жёлтое, изрытое морщинами лицо, красные, налитые кровью глаза, обвисшая кожа на теле, – описание человека, бесноватого от голода. Кровавое человекоядство голодных упырей, быть может, даже вовсе не миф, а лишь смутное историческое воспоминание об эпохах в роде 1230 или 1602 года, когда люди, действительно, поедали свои семьи, а таких эпох славянство пережило достаточно.
Упырём, обыкновенно, делается умерший колдун. Это вполне понятно: искони веруя в бессмертие души, наши предки полагали, что раз человек был волхвом при жизни, нет резона, чтобы дух его терял свои волшебные свойства и по смерти; раз он повелевал стихиями живой, отчего не повелевать ему ими и мёртвому; раз он при жизни посылал мор на людей, а на поля засуху, градобитие, ливни, бури, то и по смерти может делать те же самые злодейства. Приписывание засух «недобрым мертвецам», т. е. покойным знахарям, людям, погибшим «напрасною смертью», опойцам и т. п. – до сих пор частое суеверие. В голод 1892 года крестьяне деревни Новоматюшкиной, Николаевского уезда, Самарской губернии, гадали на сходке, кто из мертвецов кладбища приносит им беду, и выгадали, пригласив к совету староматюшкинцев, что виновница зла – Арина Новикова, слывшая в народе колдуньею; к тому же были слухи, что она умерла не своею смертью, но отравилась. Мёртвую Новикову «миром» вырыли из могилы и утопили в омуте реки Узень. Среди обвиняемых по этому делу оказались двое сельских старост, сотский, десятский и сборщик податей, т. е. всё сельское начальство. В шестидесятых годах подобных случаев утопления недобрых мертвецов было несколько; в 1868 году крестьяне Тихого Хутора, в Таращанском уезде, из опасения неурожая, вырыли «подозрительного» покойника из могилы, били его и обливали водою, приговаривая: «давай дождя!» В некоторых деревнях в разрытые могилы былых колдунов лили воду целыми бочками, повторяя таким образом на мёртвом теле те же обличительные купанья, что применялись и к живым ведунам – похитителям урожая. От подозрения в вампиризме, как и в волшебстве, не избавлял даже самый священный сан. Мы видели, как войтковцы расправлялись со своим несчастным попом Василием. А благочестивый тишайший царь Алексей Михайлович в одном письме к патриарху Никону простодушно описывает свой испуг у гроба патриарха Иосифа, когда раздутое водянкою тело покойника стало пухнуть на его глазах: «и мне пріиде такое помышленіе отъ врага – побеги-де ты вонъ, тотчасъ же вскоча тебя удавитъ»… В 1089 году скончался в Киеве митрополит Иоанн; княжна Янка, дочь Всеволода Ярославича, поехала в Грецию за новым митрополитом и привезла другого Иоанна. Должно быть это был человек крайне болезненный: он прожил на Руси всего год, а худобою и желтизною своею прямо смутил суеверную, полуязыческую паству. «Его же видевше людье вси рекоша: се павье (покойник) пришелъ».
Мы знаем. что древние славяне и германцы смотрели на будущую жизнь, как на продолжение земной жизни; знаем, что покойника отпускали в загробную страну с богатым запасом всякого имущества, чтобы мертвец ни в чём не нуждался. Однако, надо полагать, что со временем покойникам не хватало взятого с земли запаса, и тогда они бездолили градобитиями и грозами живых людей. Магония, откуда приплывали воздушные корабельщики Агобара, чтобы скупать у чародеев погубленные последними урожаи, есть не что иное, как легендарное царство мёртвых, выступавшее в средневековой литературе под многими аллегорическими наименованиями. В наших древних сказаниях оно известно, как царство блаженных рахманов, тождественных с павами, т. е. мертвецами. За царство мертвецов и злых духов были приняты первоначально вновь открытые Бермудские о-ва, что и подало Шекспиру повод написать свою фантастическую «Бурю». Царство рахманов, павов, Engelland, Nebelland, это – «вирий», таинственная вечно-зелёная страна какого-то оцепенелого лета. Туда осенью улетают птицы, уползают змеи; там вечный сон; оттуда прилетают в мир души новорождённых и туда скрываются покоиться на тихих водах души усопших; туда, на кораблях из яичной скорлупы, плавают феи, русалки, ведьмы, вещицы; туда же отвозили на воздушных кораблях побитый градом хлеб таинственные купцы таинственной Магонии. Одни сказки и легенды помещают вирий за тридевять земель, в тридесятом царстве, за морем-океаном; другие – под землёю, т. е. в той бездне, где жили боги волхвов, убитых Яном, куда наглядно для всех отходят покойники. Весна, зелень, тепло, дожди дарит миру «тот свет»; об оттепелях народ говорит очень выразительно: «родители вздохнули». Весенний дождь будит мёртвые силы природы, окостеневшия зимою, и обращает их в благие для людей. Очень может быть, поэтому, что обряд обливания могил и трупов при засухах, купание колдунов и ведьм при неурожаях лишь впоследствии, с утратою народом точных языческих традиций, обратились в обычай карательный, приняли характер истязания. Для древнего славянина мёртвый волхв был, конечно, не проклятым духом, но вещим полубожеством, которое надо было оживить жертвенным возлиянием, чтобы оно воскресло и помогло людям. Покойников оттаивает весенний дождь, – характерно, что в рассказанном выше случае на Тихом хуторе, подозреваемого в производстве засухи, упыря поливали не просто из ведра, но сеяли на него воду решетом, т. е. подражая дождю. «Сею дождь решетом», хвалится ведьма в «Макбете».
Что идёт в землю возвращается оттуда сторицей; за зерно земля отдаёт сто зёрен; за имитацию дождя могила должна вознаградить плодоносным ливнем. Что касается купанья живых ведьм, то, помимо пыточного характера, этот обычай несомненно имеет и оттенок жертвенного обряда. Его легко сблизить с сербским обрядом додолы, справляемым тоже при засухах в таком порядке: «нагую девушку обвязывают травою и цветами так, чтобы почти не видно было её лица. В этом виде, как бы движущееся растение, она обходит дворы один за другим. Её зовут Додола. Каждая хозяйка выливает на неё ведро воды, а её спутницы поют песню с мольбою о дожде. Песня выражает твёрдую уверенность, что гроза немедленно нагонит поющих и оросит дождём поля и виноградники» (Л. Ранке, «История Сербии»). В губерниях Тамбовской, Тульской и в некоторых местностях Малороссии существует обычай «провожать русалок», заклиная их, чтобы они берегли жито, не вредили посевам; по окончании обряда, чучело русалки топят в реке, а участники церемонии, в шуточной борьбе, обливают друг друга.
Через поверье о русалках, волшебная связь воли усопших с урожаем выясняется с полною яркостью, ибо непосредственное значение русалок в народной мифологии – грешная душа некрещёного ребёнка, утопленницы и т. п. Древле-мифологическое значение их столь разнообразно и сложно, что изъяснение его потребовало бы специального очерка. В первобытном своём виде, лишь самое ничтожное число стихийных духов дошло до нашего времени от древности. В среде их – кроме русалок – кобольды и цверги, которых русская народная мифология сохранила в поверье о подменышах, т. е. о детях, выкраденных якобы ведьмами, лешими, русалками, причём, на место похищенного младенца, нечистая сила кладёт своих собственных ребят. Украденные дети становятся вовкулаками, т. е. оборотнями-человекоядцами, со всеми признаками вампиризма, а их подменыши, вырастая среди людей, делаются колдунами, губителями рода человеческого, распространителями мора и голода; по смерти, они тоже вампирятся. От обыкновенных детей они отличаются страшным лицом, огромною головою, тоненькими ножками, вздутым брюхом (при безобразной общей худобе) и необычайною прожорливостью. Как читатель видит, все эти признаки «природного упыря» целиком взяты с признаков вырождения ребят от худого кормления. Подменыш объедает семью и разоряет дом: на него не напасёшься. Это поверье держится в народе с редким упорством. В 1898 году в Малороссии одно детоубийство было совершено матерью в твёрдой уверенности, что она убивает подменыша. Ребёнок был идиот, урод и обжора, вполне подходивший под сверхъестественный портрет, выше приведённый. Мать ходила на подёнщину в экономию. Лили страшные дожди. Эконом и рабочие приписали мокропогодицу злому влиянию урода и запретили матери носить дитя на работу. Мать, чтобы не потерять подёнщины, наняла присматривать за сыном, в её отсутствие, какую-то старую бабу. Этой, напуганной общим суеверным страхом к ребёнку, бабе приснился сон, будто пришли к ней две женщины и говорят: что ты, дура, делаешь? за что взялась? кого стережёшь? Разве это Лукерьин сын? разве людские дети едят зараз по целой ковриге? Лукерьина сына давно выкрал нечистый, а это подменыш. Смущённая сном, старуха отказалась стеречь нечистое дитя, и матери пришлось снова взять его на подёнщину. Случилось так, что, едва она показалась с ним в экономии, стоявшая до тех пор ясная погода вновь сменилась ливнями. Бабу прогнали с работы, обругали, избили; тогда она и сама поддалась суеверному страху, вообразила в сыне нечистого и порешила от него отделаться: привела «подменыша» к оврагу и спихнула с кручи… Урод убился до смерти. Односельчане вполне одобряли бабу и решительно отказывались понять: за что её судить?
Вербы на Западе
Народ французский освятил Вербное воскресенье нежным и красивым именем «Цветочной Пасхи», – Paques-fleuries. Это – праздник первой весны. Церкви и дома благоухают цветами; всюду – букеты из маргариток, скромного лугового цветка, одноимённого, по-французски, приближающемуся празднику праздников (Paquerette). В сёлах, ещё не вовсе растлённых «концом века», крестьяне в праздничных одеждах посещают кладбища, где спят их отцы святят над их могилами вербы и, возвратясь с погоста, набожно укрепляют священные ветви над кроватью, между образками Спасителя и Божьей Матери. В Париже, накануне Вербного воскресения, пристань св. Николая в Лувре ещё недавно бывала завалена горами зелени, сплавляемой в столицу на судах по Сене. Несмотря на обильный привоз, зелень раскупали нарасхват, в несколько часов. Весь Париж зеленел: паперти, перекрёстки улиц, фонтаны, окна магазинов; у мужчин – ветки зелени в петлицах, у дам – букеты у пояса; кучера украшали зелёными султанами головы своих лошадей, водовозы оплетали травяными гирляндами свои бочки. Amédee de Ponthieu, автор интересной книги «Les Fêtes légendaires», характеризует Вербное воскресенье в Париже шестидесятых годов словами: «Атеисты, деисты, добрые католики и даже животные все справляют на свой лад праздник в честь грядущего во славе Бога – в честь воскресшей весны».
Празднование Вербного воскресения началось на Западе не ранее VI века по Р. Х., т. е. с распространением христианства на галльский, германский и славянский север, в недавнем язычестве своём привычный к празднествам весны, возрождающей столь дорогую сердцу дикаря растительность леса и степи. В странах католических Вербное воскресение носит название «праздника пальм» – le dimanche des palmes, в воспоминание пальм, которые, девятнадцать веков тому назад, жители Иерусалима повергали под копыта осляти, привёзшего к ним Господа Христа. В северных округах Франции пальмы заменяются, как и у нас, вербою или, ещё чаще, буксом – деревцом из породы молочайных, вечно зелёным, и зиму, и лето. Buxus sempervirens, определил его Линней. Почему он всегда зелен, – о том есть легенда.
«Когда Иисус, на кресте, испустил последний вздох, вся природа омрачилась, весь мир содрогнулся. Кровавые облака затмили солнце. Заблистали пламенные зигзаги синей молнии. Пропасти разверзлись. Люди, животные, птицы, в страхе прятались по дебрям и трущобам. Ни одна стрекоза не пела, ни один кузнечик не трещал, ни одна муха не жужжала. Мёртвое молчание давило всю природу. Только деревья, кусты и цветы шептались между собою.
И сказала пиния пустыни Дамасской:
– Он умер. Отныне, в знак траура, я навеки оденусь в тёмную хвою и буду расти, как отшельница, в степях, далёких от жилищ человеческих.
Сказала вавилонская ива:
– Он умер! Ветви мои! склонитесь, в знак печали, к водам Евфрата. Каждою зарю я буду плакать о Нём слёзною росою.
Сказала виноградная лоза улыбающегося Сорренто:
– Он умер. В знак горя, я стану теперь приносить гроздья, чёрные, как уголь, а вино, выжатое из моих плодов, получит название слёз Христовых[1].
Кипарис с горы Кармила сказал:
– Он умер. В свидетельство скорби, я сделаюсь деревом кладбищ, хранителем всех смертных горестей.
Тис, и прежде тёмный, почернел ещё более и сказал:
– Он умер. В знак тоски по Нем, я тоже посвящаю себя гробам и могилам. Горе пчеле, которая коснётся моих отравленных скорбью цветов: она умрёт. Горе птице, которая сядет на мои ветви: она умрёт. Горе человеку, который дышит моими испарениями: он умрёт[2].
Ирис сказал:
– Он умер. С этого дня я покрою свою золотую чашечку фиолетовым крепом.
Повилика сказала:
– Он умер. В память Его я стану каждый вечер закрывать свой душистый венчик и открывать его только по утру, весь полный ночными слезами.
Так плакались все растения. Дубы роняли жёлуди, фруктовые деревья – плоды, платан растерзал на себе свою красивую кору. Скорбели все – от мощного ливанского кедра до подснежника в роще, до анютиных глазок в поле. Только тополь, суровый и надменный, не принял участия в общем горе. Он говорил:
– Что мне до Него? Он умер за грешных, – я безгрешен. Смерть Его меня не касается!
Слова тополя услыхал ангел, улетавший на небо, с золотою чашею, полною божественной крови, собранной на Голгофе. В наказание безжалостному дереву, он брызнул кровью на корни его и повелел:
– Ты не делишь горя всей природы – не делить же тебе и её радостей! В тёплые летние дни, когда все остальные деревья будут мирно дремать под солнечными лучами, ты один будешь зябнуть и дрожать от корня до макушки; люди презрят тебя и станут с этих пор звать не тополем, но осиною[3].
Букс рос в кавказском ущелье. Тяжкий вздох умирающего Бога долетел к нему с Голгофы и оледенил ужасом его сердцевину. Листья его потемнели, ветки стали корявыми и переплелись между собою, словно ища помощи и защиты друг у друга. В свою очередь, он произнёс обет:
– Я буду вечно оплакивать Иисуса. В знак скорби, я хочу произрастать только в бесплодных каменистых горах; осенять могилы моими вечными зелёными ветвями, как символ вечной скорби; служить кропильницею для святой воды, когда ею орошают гробы усопших».
По другой легенде, Исаак, Вечный жид, проходя горами Кавказа, коснулся вечнозелёного букса. От прикосновения проклятой руки листья деревца, в ужасе, свернулись и скоробились. Жид сделал себе из букса – «железного дерева» – неизносимый посох, опираясь на который бродит он по свету, повинуясь таинственному велению:
– Иди! иди! иди!
В некоторых округах народное суеверие приписывало листьям букса большую мистическую силу; в других, например, в Франш-Конте, их считают, наоборот, вредными и проклятыми. В горах Юры есть предание, видоизменяющее пресловутую легенду о «Дикой охоте» тем, что место дикого охотника занимает в нём царь Ирод. Одному паромщику на Конде случилось якобы однажды перевести этого горемычного государя, вместе с несметною его собачьей сворою, через реку. Ирод расплатился с паромщиком золотом; но когда парень вздумал пересчитать монеты, не нашёл в кармане ничего, кроме листьев букса.
В Провансе вербами служат мирт, лавр, маслина, на Юре – бук; в Испании и Италии – пальмы.
На славянском Западе – у чехов, у галичан – обычай освящения верб тот же, что и у нас. Священная верба считается целебным средством от разных болезней; в её отваре купают детей; против лихорадки рекомендуется съесть девять распуколок с свячёной вербы; от переполоха – надо вбить в стену вербовый колышек, и испуг не будет иметь вредных последствий; вербою отбиваются от водяного, от вампиров; верба спасает поля от града, мышей и кротов, а дома – от пожара; если бросить вербу против ветра, она укрощает бурю; чтобы домашний скот был здоров, его выгоняют на первый подножный корм освящённою вербою; чехи кормят ею коров, чтобы у них не портилось молоко, клады, по богемскому поверью, тоже открываются лишь при помощи свячёной вербы. В Малороссии верят, что кто пойдёт к заутрене под Светлый день с свячёною вербою и станет смотреть сквозь ветки вербы на собравшийся народ, тому обнаружатся колдуны и ведьмы околотка, потому что все покажутся стоящими, как следует, а они – головами в низ, а ногами вверх. Чтобы увидать ведьму, чехи советуют в Великую субботу зажечь в печи освящённую вербу: сейчас же явится баба и станет просить огонька взаймы. То и есть ведьма.
Любопытно, что, подобно буксу у народов романских, верба у западных славян дерево – то благословенное, то проклятое. Галицкое поверье объясняет, что
Коли жидове Христа мучили,По распятию распинали,Клюков за рёбра разбивали,Терновый венец на голову клали.Елевы шпильки за ногти били,Всякое деревцо не легло в тельце,Червива ива согрешила –Иисуса Христа кровь пустила.То верба гонит демонскую силу, то сама служит ей пристанищем, настолько постоянным, что у всех славянских народов существует одинаковая пословица – «влюбился, как чёрт в сухую вербу». Таинственное значение вербы, впрочем, гораздо старше мистической роли её в христианстве. Литовцы воздавали вербе почести, считая её женщиною, по имени Блиндою, обращённою в дерево по зависти матери-земли к её плодородию. Венчание «вкруг ракитова куста» – исконный славянский обряд. Даже в христианские времена он имел законную силу, а наш Стенька Разин, захватив власть на Дону, ввёл его, как господствующую брачную церемонию, приказав казакам венчаться не в храмах, но около верб.
Знаменитый своею красотою путь от Ниццы до Генуи, по Ривьере, – сплошной сад почти тропической растительности. На пути этом, близ известного курорта Сан-Ремо, есть пустынь св. Ромула Здесь и на высотах Бордигеры искони существует промысел пальм, доставляемых бордигерцами в Рим к Вербному воскресенью, на что они имеют даже особую привилегию – старинную, от папы Сикста V. По легенде, привилегия эта заслужена находчивым советом одного бордигерца, когда ставили известный обелиск на площади Св. Петра. Чтобы не развлекать рабочих, поднимавших страшную тяжесть драгоценного античного памятника, зрителям сооружения было запрещено папским указом, под страхом смертной казни, произносить хоть одно слово, пока обелиск не очутится на пьедестале. Толпа хранила молчание, но работа не спорилась. Наконец, гранитная масса двинулась, – канаты напряглись, готовые перегореть и лопнуть. Это заметил один рыбак из Бордигеры. Забыв о папском приказе, он закричал на всю площадь: