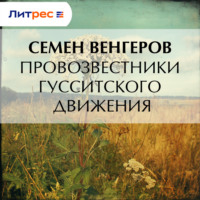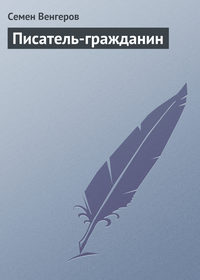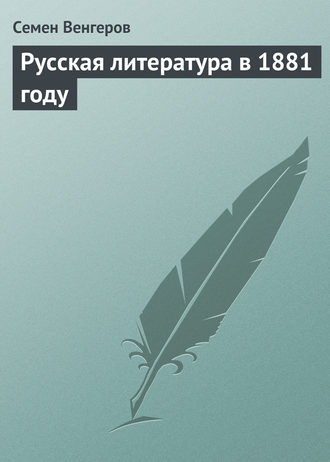 полная версия
полная версияРусская литература в 1881 году
Отделан г. Успенским образ Варвары с замечательной теплотой. Видно, сам он отдыхает на нем; видно, самому ему приятно показать этот перл, выловленный в народном океане. Одним отрицанием и «отрезвлением» не проживешь и ужасно рад будешь, если после длинной полосы скептицизма есть возможность остановиться на чем-нибудь бодрящем.
Чтобы покончит с г. Успенским, отметим, что и на раскол он теперь уже совсем иначе смотрит. Восторженно говорит он в одном из очерков «Без определенных занятий» о русском сектантстве, видя в этих «алчущих и жаждущих правды» залог светлой будущности народа. О, это уже совсем не тот изношенный, стоптанный сапог, которым был раскол для г. Успенского года три тому назад. Нет, это уже семимильные сапоги-скороходы, при помощи которых далеко пойдет народ паям по пути духовного развития.
Столь же неутомимо, как и г. Успенский, работал на пользу народному делу и другой корифей мужицкой беллетристики – г. Златовратский.
В прошлом году он дал пять «Очерков деревенского настроения», два очерка «На родине» и «Приезд в деревню», знакомый читателям Русской Мысли.
Еще до недавнего времени гг. Успенский и Златовратский считались главарями двух равных направлений в мужицкой литературе: г. Успенский – «отрезвляющего», г. Златовратский – «идеализирующаго». Но теперь разница значительно изглаживается. Про г. Успенского нам уже известно, что он сделал значительные уступки «идеализаторам». Что же касается г. Златовратского, то он, в свою очередь, тоже в известной степени изменился, утратив ту сентиментальность, которая ослабляла жизненность его прежних произведений. Оба направления, таким образом, сделали друг другу уступки и в результате получилось по истине трезвое изображение народной жизни, чуждое и сентиментального преувеличения, но я неповинное в излишнем оплевывании народных «устоев».
В «Очерках деревенского настроения» г. Златовратский старается уловить умственную и нравственную физиономию «новой деревни», с её потрясенными от напора Колупаева основами, с её «умственными» мужиками, из которых неизвестно еще что вылупится: кулак чистейшей воды или же просто основательный земледелец, которому уже никак на шею не сядешь, как это бывало с мужичками «доброго старого времени».
Самым драгоценным выводом г. Златовратского нельзя, конечно, не признать того, что «массовая душа – это тот лед, который может быть внутренно воспламенен до 180°, незримо и непонятно для стороннего глаза, выработав эту теплоту в своей внутренней лаборатория. Но один момент, один порыв, одно, может-быть, очень ничтожное обстоятельство – и внезапно вся эта, сконцентрированная годами незримой работы, сила неудержимо освободится из оков тайны и расплавить мгновенно самый лед, озарив освободившимся светом и теплом все, что в безнадежном холоде жило вокруг» («Очерки деревен. настроения», Отеч. Зап., февраль).
Той же «новою деревнею» занимается и другой крупный деятель мужицкой литературы, г. Энгельгардт. В прошлом году он поместил два письма из длинной серии «Писем из деревни», тянущихся около десяти лет. Одно из них, описывавшее некий «Счастливый уголок», где крестьяне живут «припеваючи», произведено большую сенсацию и послужило темой оживленных печатных и устных толков.
Письма г. Энгельгардта представляют собою очень оригинальную смесь беллетристики и публицистики, написанную очень метким и свободным языком. Благодаря этому, письма г. Энгельгардта очень много читаются и притом даже такими, которым сюжеты, трактуемые почтенным профессором, «скучны». Главное их достоинство заключается в том, что г. Энгельгардт всякий вопрос ставят резко и без, всяких виляний. «Нельзя не признаться, хотя должно сознаться» – вы у него никогда не найдете. Ни пред какими авторитетами и «веяниями», даже самыми «либеральными», он не останавливается и правду-матку там в глаза и режет. Известна его резкая выходка, несколько лет тому назад, против кооперативного сыроварения. Кооперативное сыроварение считалось у нас делом крайне «либеральным», крайне передовым явлением. А вот пришел г. Энгельгардт и без дальних колебаний отрезал, что либеральное сыроварение идет на счет жизни крестьянских ребятишек: прежде молоком их поили, а теперь это самое молоко на кооперативную сыроварню несут и ребятишки потому мрут как мухи.
Вот и в разбираемых двух письмах г. Энгельгардт самым резким образом ставят модный теперь вопрос о соотношении помещичьего хозяйства и крестьянского труда. Известно, сколько есть проектов и планов примирить эти два интереса, устроить так, чтоб и у помещика были рабочие руки, и чтоб эти рабочие руки не бросали бы своей земли и не разоряли таким путем свое хозяйство. Г. Энгельгардт необинуясь, прямо, заявляет, что помещичьи интересы и крестьянские – вещи диаметрально противоположные, что примирить их нет никакой возможности и что какая-нибудь сторона должна уступить свои права на землю. А так как крестьянин не может уйти от земли, то уйти должен помещик.
С такой же ясностью и резкостью показывает г. Энгельгардт, как так-называемое, «оживление» торговли есть непосредственная причина крестьянской голодовки. Опять значит «натравливание» сословий… Одним словом, беспокойный человек!
И как же, однако, скромен этот «агитатор», когда, оставляя «критику», переходит к положительным требованиям. Вот, например, описывает он несколько деревень, которым дает название «Счастливого уголка», потому что обитателям его живется «хорошо». И что же, однако: «если кто-нибудь, незнакомый с мужиком и деревней, вдруг будет перенесен из Петербурга к небу крестьянина „Счастливого уголка“, и не то, чтобы в избу средственного крестьянина, а даже в избу „богача“, то он будет поражен всею обстановкой и придет в ужас от бедственного положения этого „богача“ (Отеч. Зап., февраль, стр. 378). Не думайте, что г. Энгельгардт иронизирует, – нет, он от души доволен „благосостоянием“ „Счастливого уголка“. „В одной из деревень последние два года уже все были богачи, то есть никто хлеба не покупал, у всех хватало хлеба до нови“. И вот такой-то, уголок г. Энгельгардт, желая быть верным действительности, должен назвать „Счастливым“. Мало того, он „мечтает“ о том, чтобы вся Россия покрылась такими „Счастливыми уголками“.
Главным условием образования „Счастливых уголков“ г. Энгельгардт считает освобождение крестьянина от необходимости продавать свой труд постороннему, что лишает его возможности аккуратно вести свое хозяйство и приближает его к состоянию безземельного пролетариата. Для этого нужно, чтобы помещик „ушел“ от земли, пошел бы в город, а землю отдал бы крестьянину (за деньги, конечно; не пугайтесь, пожалуйста, и не подумайте чего-либо зазорного. Сами, славу Богу, как и все люди, в участке прописаны).
Но если совсем не нужен мужику помещик, то весьма ему нужен, по мнению г. Энгельгардта, „хороший“ интеллигент. И вот г. Энгельгардт проектирует „интеллигентную деревню“, чтобы собирались интеллигентные люди большими компаниями, приобретала бы землю с тем, чтобы самим ее обрабатывать, вести хозяйство по правилам рационального хозяйства и таким путем и самим кормиться, и мужикам пример подавать. „Садитесь на землю и не опасайтесь, что вам нечего будет делать среди мужиков. Дела не оберетесь, дела пропасть“. Г. Энгельгардт не настолько, однако, наивен, чтобы рекомендовать образование интеллигентных деревень „интеллигенту“ вообще. Он достаточно пожил на свете, чтобы знать, что интеллигенция и порядочность – вещи совсем не всегда совпадающие. И обращается он поэтому к тем, которые не разрешили еще „проклятых вопросов“, еще „мечутся“.
„Чего метаться! Идите на землю к мужику! Мужику нужен интеллигент. Мужику нужен земледелец-агроном, нужен земледелец-врач на место земледельца-знахаря, земледелец-учитель, земледелец-акушер. Мужику нужен интеллигент-землевладелец, сам лично работающий землю. России нужны деревни из интеллигентных людей“.
„Интеллигентный человек нужен земле, нужен мужику, – говорит еще раз г. Энгельгардт, в заключение своего призыва. – Он нужен потому, что. нужен свет для того, чтобы разогнать тьму. Великое дело предстает интеллигентным людям. Земля ждет ил и место найдется для всем“.
Найдется ли? Вот в тех же Отеч. Записках, в декабрьской книжке, внутренний обозреватель рассказывает истерию одной попытки устроить „интеллигентную деревню“. Грустная история!
Не много, веселья и в остальной» части мужицкой беллетристики. Все то же «надоевшее» г. Буренину «нытье» о безысходной нужде крестьянской, о кулаке, опутывающем мужика по рукам и ногам, об уряднике и становом, мудрующих под деревней в силу «данной им власти» тащить и не пущать, и тому подобные занятные сюжеты. Не только от одного пристрастия к изящной словесности, иной раз сбежишь от них к переводам с гишпанского г-жи Ахматовой!
Чтоб и читателю не очень надоест своим «нытьем», ограничусь кратким перечнем остальных выдающихся явлений мужицкой литературы прошлого года. Новых, более утешительных, сведений в них нет, а тоску лишнюю нагонять зачем же.
Кроме журнальных очерков, г. Успенский дал в нынешнем году отдельное издание всех своих деревенских рассказов последнего времени, под названием «Деревенская неурядица». Такое же издание сделал г. Наумов, известный бытописатель житья-бытья сибирского крестьянства. Книга г. Наумова очень сочувственно была принята публикой и критикой, которая по достоинству оценила симпатичное дарование автора характерных рассказов из жизни нашего «золотого дна», стараниями добрых людей превращенного чуть ли не в геену огненную. Нового г. Наумов в прошлом году дал несколько очерков в, написанных со свойственной ему теплотой и выразительностью.
Г. Немирович-Данченко познакомил публику с «Крестьянским царством» и бытом горнозаводского населения Урала. О «Крестьянском царстве» мне в Русской Мысли говорить не приходится. Что же касается уральских очерков г. Немировича, то они написаны с присущим ему талантом и яркостью колорита. Жаль только, что колоритность эта по временам очень ужь ярка, так что наводит на некоторые размышления, не всегда выгодные для автора.
Недурны были в Деле рассказы из «Жизни южно-русского села» г. Потапенко. Один из них – «Редкий праздник» – рисует очень любопытную картину деревенского «Strike'а». Хотели было «извлечь выгоду» из мужичков, да, славу Богу, ничего. Не дали себя в обиду. Отстояли.
Также весьма недурен рассказ г. Салова, – «Николай Суетной» (Отеч. Зап., № 10), описывающий один совсем, совсем «удивительный» случай, мужику представился случай разбогатеть путем сделки с совестью: его набожного православного, совращали в молоканство и от такого впадения в ересь ему, предстояло разбогатеть, – и тем не менее мужик от такой сделки отказался. Положим, что не единым хлебом сыт человеке, но ведь мужик-то и хлебом не очень сыт.
Следовало бы мне, собственно, побеседовать о г. Эртеле, одном из весьма теперь заметных писателей из народной жизни. Но в его «Записках степняка» так тесно переплетаются между собою изображения народной жизни с изображением жизни интеллигентной, что уже лучше отложу речь о нем на-дальше, при рассмотрении «общей» литературы прошлого года. По этой же причине не скажу теперь ничего об очерках г. Тверского «Не к полю ягоды» в Вест. Европы.
В заключение отмечу еще два-три явления мужицкой беллетристики. Г. Федосеевец напечатал в Слове любопытные рассказы из жизни наших сектантов, которые с интересом прочтутся людьми, привыкшими смотреть на раскол не как на догматическое только изуверство. В Отеч. Зап. г. Федосеевец поместил «Бабушку-генеральшу», написанную не то чтоб очень хорошо, но любопытную тем, что характеризует собою борьбу двух течений народной жизни: старого, патриархального, когда все более или менее совершалось по «простоте», и нового, «культурного», на первых же порах познакомившего добродушных Козаков (из их жизни рассказ) с «векселёчками», «неустоечками», «процентиками» и тому подобными вестниками цивилизации.
Раз зашла речь о г. Федосеевце, нельзя не упомянуть о его замечательной «программе для собирания сведений о расколе» (Отеч. Зап., No№ 3 и 4). Автор выказал в ней блестящее знакомство с предметом и верное понимание движений народной души. Совершенно справедливо упрекает г. Федосеевец в предисловии к своей «программе» русскую интеллигенцию за то, что она до сих пор так мало обращала внимания на самое крупное явление русской народной жизни и не овладела социологическим фактором такого громадного значения. И эти упреки делаются в Отеч. Зап., которые года три назад объявили раскол стоптанным сапогом. Ну, не знамение ли тут времени, не победа ли нового народничества, преклоняющегося пред народными идеалами, над старым, смотрящим на эти идеалы как на остаток старого варварства?…
Этому же первостепенному социологическому фактору русской жизни были посвящены замечательные очерки г. Пругавина: «Алчущие и жаждущие правды». Но об этом мне опять-таки не приходится распространяться на страницах Русской Мысли.
А теперь я могу закончить свой отчет о мужицкой беллетристике прошлого года. Упомяну еще разве о симпатичном рассказе г. Баранцевича «Они» в «Отклике». Появилось-то в прошлом году, полонян, гораздо больше мужицкой беллетристики, нежели я отметин, да не о всем говорить стоит. О том, что хорошо, я сказал; а о том, что дурно, лучше умолчу. Ведь в большинстве этого дурного нетрудно отыскать хорошее намерение так или иначе содействовать разрешению «народного вопроса». Будем и за это благодарны.
(Окончание следует.)
Сноски
1
«Отклик» – литературный сборник в пользу студентов и слушательниц высших женских курсов. С.-Пб. 1881 года. Статья наша: «Достоевский и его популярность в последние годы», стр. 289.
2
К сожалению, любви-то торжествующей мы и не видим в художественно написанной сказке И. С. Тургенева.