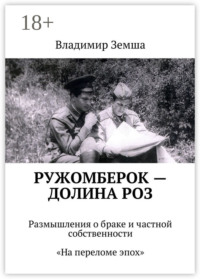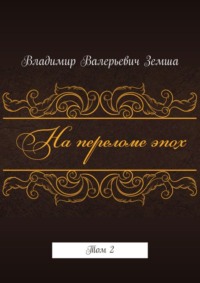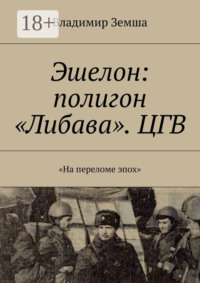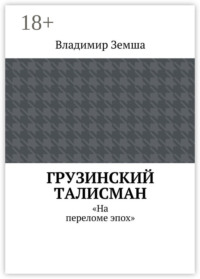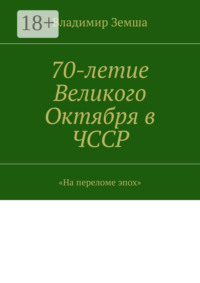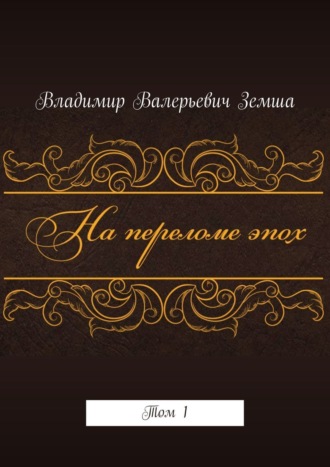
Полная версия
На переломе эпох. Том 1
– Товарищ сержант! Ко мне! – крикнул он в сторону того же непонятного сержанта, который медленно выходил вразвалочку из расположения. Сержант нехотя подошёл. Его ремень был настолько ослаблен, что бляха болталась где-то почти на уровне «неприличного места». Ворот кителя был нараспашку, обнажая не очень свежее нижнее бельё и грязную подшивку, нашитую толстым слоем по «неуставному» «приблатнённому» способу.
– Товарищ сержант! Как ваша фамилия?
– Гвардии сержант Ибрагимов! – сержант вяло поправил пилотку, из-под которой гордо выбивался жёсткий чёрный, как смоль, чуб с редкими вкраплениями седины, так странно смотревшимися на его ещё юной голове.
– Гвардии сержант! А смотритесь как чмо! Приведите себя в порядок и стройте подразделение! – Майер буравил сержанта взглядом, выговаривая каждое слово перекошенными от злости губами.
– Таварыш лэтенант! Так нэ скажи,.. э-э-э-э!..
***
ПлацМного ли, мало ли времени прошло, но день подходил к концу, а седьмая рота вяло топала сапогами по территории части.
Не желая тратить много времени на вечернюю строевую подготовку, Майер желал только одного: встряхнуть чуток это разнузданное «стадо» и провести перед отбоем элементарный инструктаж к предстоящему утром полевому выходу, к которому подразделение, как казалось, было абсолютно не готово. Однако рота не «встряхивалась» и напоминала больше толпу анархистов, нежели воинское подразделение, вяло выполняя команды молодого лейтенанта.
– Рота-а-а, стуй! Кру-у-угом!
Рота остановилась. Несколько солдат развернулось было, но под «шишим—каньем» товарищей вернулось в исходное положение.
– Так нэ сдэлай!
– Таварыш лэтенант! Давай хватыт! – Ибрагимов бросил взводному, смотря вслед белобрысому бойцу, который в этот же момент самовольно вышел из строя и поплёлся себе в казарму, громко выкрикивая русский набор ругательств и «чмыря» всех и вся, кто всё ещё находился в строю.
– Разорёнкин делает «йок»6! – далее раздалось несколько возгласов, в том числе и на различных языках народов СССР, и вскоре всё воинское подразделение седьмой роты начало рассыпаться как горох, следуя дурному стадному примеру, один за другим. Пару минут – и все куда-то исчезли. Лейтенант бы мог бесполезно орать, брызжа слюнной пеной, но он сдержал себя, понимая, что будет смотреться донельзя глупо. Кровь ярости, вперемежку со стыдом поражения и отчаянием, ударила в голову молодому лейтенанту. Ведь это было полное фиаско его как командира. Сразу, с первого же дня.
«Ну, нет! Солдатскому „Блицкригу“ не бывать!» – решил юноша. И с разгораемой яростью, ринулся в расположение в поисках «неформального лидера», давшего «залп Авроры», спровоцировавшего бунт «на корабле». Разорёнкин лежал на койке, закинув ноги в сапогах на дужку кровати. Майер подскочил и рывком скинул солдата на пол.
Тот скривился от боли, подскочил в готовности сцепиться с молодым офицером.
– Солдат! Сейчас же я сдам тебя на гауптвахту!
Тот, язвительно ухмыльнувшись, изображая всем видом полное презрение, вышел из кубрика и куда-то отправился восвояси.
– Дневальный! – Майер не был намерен оставлять это вот так.
«Ночь длинна! Так что эти сутки будут для этого подразделения самыми длинными!» – безальтернативно решил он, чувствуя при этом свою практически полную беспомощность и прилив какой-то дикой всеуничтожающей ярости. Тогда он не знал, что через три-четыре года вот так же, как этот многонациональный строй, развалится и вся их многонациональная советская империя! А власть будет вот так же истерично и безрезультатно, под улюлюканье, как и он сейчас, пытаться «оседлать взбесившегося мерина»…
***
ДОСы7Немолодой тридцатилетний командир седьмой роты капитан Несветайло был в прекрасном расположении духа. Он вяло посмотрел в окно туманным от выпитой «пшеничной» взглядом, отхлебывая свежий, наваристый, ароматный куриный супчик с сочными мягкими кусочками моркови и нежной, тающей во рту, домашней лапшой… Его желудок, казалось, буквально пищал от удовольствия.
Уставший день озарял на прощание небосвод на Западе, погружая ДОСы в сумерки.
– Товарищ капитан! А можете отправить меня поваром в столовую, а? Там сейчас на дембель повара уходят. А я бы как раз подошёл бы. Сами знаете, мне это дело ближе, чем автомат! Похлопочите за меня, а?
– Исаев, ну сколько можно канючить?! Который раз ты уже это вот?.. Да ладно! Посмотрим, посмотрим. Вот дембеля уйдут, тогда и посмотрим!
Рядовой Исаев был поваром на гражданке. И теперь охотно заменял для своего ротного, в деле кашеварения, поварскую роль его жены, уехавшей недавно в Союз. Быть здесь, в домашней обстановке для него, как практически для любого бойца, было гораздо приятнее казарменного прозябания. Думаю, даже офицер бы позавидовал этой тёплой
участи Исаева, даже сам ротный!.. А всё же самая большая его мечта была – попасть в солдатскую столовую поваром, «поближе к кухне», так сказать, подальше от полигона навсегда…
От нежданного стука в дверь капитан сморщился.
– Исаев! Глянь, кого там принесла… нелёгкая! – бросил он в сторону бойца в фартуке, моющего посуду.
– Это посыльный, товарищ капитан. Вас в роту вызывают, – Исаев крикнул из прихожей.
– В роту-у-у? Кто именно и на кой?
– Этот новенький наш лейтенант, вроде.
– Новенький? Ох, уел меня этот новенький, не успел появиться, как там его?!. Ох, уел! – забормотал Несветайло, откладывая в сторону ложку. Нетвёрдой походкой он добрался до койки, упал и тут же раздался храп.
– Давай, топай, топай, скажи, капитан болеет… Он спит! – Исаев вытолкал посыльного и захлопнул дверь.
***
Седьмая рота– Давай, давай. Бери тряпку, – дежурный по роте сержант-узбек Ибрагимов, понимая, что «щас что-то будет», стал немного напрягать своих дневальных для создания хоть какой-то иллюзии порядка.
Дневальные, рядовые весеннего призыва 87-го, грузин Даташвили, русский Ткаченко, недавно переведённый за «прорыв»8 в седьмую роту и отслуживший уже почти год, и узбек-«черпак» Каримов, имеющий за плечами почти год службы, понуро мялись в туалете.
– Нэ мужской работа! – гордо заявил Даташвили.
– Чё нэ мужской? Узбек тоже нэ баба! – «черпак» Каримов, вполне одобряемый своим земляком из Самарканда сержантом Ибрагимовым, направился в кубрик.
Ибрагимов ткнул Даташвили:
– Сматры мэнэ! Чтоб бил парадак! З тэбья зпрашу!
И захлопнул дверь. Возможно, он вполне понимал, что сей представитель грузинского народа мыть сам не станет. Его, Каримова, земляк уже покинул «поле боя». Но ведь там для того оставался ещё и Ткаченко…
Через пару минут Даташвили вывалился в коридор, сплёвывая на пол кровь, сочившуюся из разбитой губы. Ткаченко спокойно вышел следом.
– Ты чё! Обуре-ел! – Ибрагимов двинулся на Ткаченко, выкатив глаза из орбит от ярости. Это не было продиктовано желанием защитить Даташвили. Нисколько! Просто если уже и «ягнёнок, отданный на заклание» посмеет брыкаться, то кем станет он, Ибрагимов! Ну не самому же очко драить, в конце-то концов, и не собственных же земляков насиловать «женским» трудом!
Яростные попытки Ибрагимова ударить Ткаченко вскоре завершились нижней подсечкой, и Ибрагимов распластался, кривясь от боли, на бетонном полу. Ткаченко опустился рядом на одно колено и упер кулак в челюсть сержанта.
– Вопросы ещё есть? Товарищ сержант!
– Ты труп! – заорал Ибрагимов и схватился за штык-нож. Но в следующее мгновение Ткаченко перехватил его руку, вывернул и резко впечатал кулак в живот Ибрагимова. Тот выдохнул с кряком, выронил нож и скрутился на полу. Далее последовали длинные тирады на узбекском.
Очень скоро в коридор вылезли земляки Ибрагимова по «Средней Азии». Возле «ружейки» уже стоял Даташвили, прикладывая руку к разбитой губе, с группой своих «кавказских» земляков и также таращился в сторону Ткаченко крайне недоброжелательно.
Тучи вокруг Ткаченко сгущались. А он играл с «трофейным» штык-ножом, нагло улыбаясь прямо в чёрные, ненавидящие, налитые кровью глаза вокруг.
– Чё, Ибрагимов, своего земляка отпустил. А нас с Даташвили запер одних с очком разбираться. Да?!
– Узбек мыт пол нэ будэт!
– А кто, Кавказ будет? – Ткаченко умышленно сталкивал две национальные группировки лбами, подыгрывая на «больной струне».
Из кубрика вылез Разорёнкин, окинул взглядом происходящее и вяло скрылся назад, матерясь себе под нос, явно не желая впрягаться за земляка.
– Ты будэш! – вперёд выступил один из солдат-узбеков.
– Ну что, какие ещё будут версии? – Ткаченко, не дожидаясь массовой атаки, выбрал наиболее «аппетитную» из всех присутствующих жертву из числа узбеков и долбанул его сапогом в нос так, что тот опрокинулся, заливаясь кровью из разбитого носа.
– Да это нармалный мужъик!
Кавказской группе, стоявшей вокруг Даташвили, этот русский, так красиво мочивший «Среднюю Азию», внушил уважение. А вот кровь врагов явно ударила им самим в голову, и кавказцы, размахивая эмоционально руками, набросились на «узбекскую группировку». Ткаченко же отошёл в сторону и встал «на тумбочку», как и положено дневальному. Сохраняя хладнокровие, он наблюдал сцену яростной баталии со стороны.
– Смирно! Мать вашу! Стоять всем! – заорал внезапно вошедший дежурный по полку капитан, положив руку на кобуру. Следом вошли Хашимов и Майер, удивленно и растерянно глядя на невесть откуда взявшегося перед ними дежурного по полку, на свору солдат.
– Да! Да тут у вас полный пи… пец! Вы тут всё разложили с вашим капитаном! Вот завтра утром будет что доложить командиру полка!..
***
Губа. Камера– Ты чё, тэпэрь, доволен? – Каримов кинул в сторону Даташвили, который сидел на корточках, обхватив голову. Раздался лязг засовов.
– Ну, чё, чурбаны, полы теперь мыть будем? Или не мужской работа!? – начальник караула с ехидцей буравил бойцов.
– Нам шинели на ночь дадут? – Даташвили зло зыркнул исподлобья в ответ.
– Обойдётесь, уроды! Сперва вылижите очко на губе, а потом посмотрим!
– Не бюду! Я нэ баба, я мужзьик! – Каримов гордо поднял голову.
– Мужьик! – передразнил начкар. – Что, опу… вжик… и опять мужик?! Ха, ха, ха. Посмотрю я на вас через пару дней!
– Шишим…
– Шени,.. – бойцы зашипели ругательства на своих языках и как только железная дверь закрылась, едва ли снова не вцепились друг в друга, но не вцепились… сейчас у них появился общий враг и общая беда.
– Ты не вздумай им подпорки под нары выдать, не на курорт попали! Пусть смотрят кино «Деревья умирают стоя», пока ума не наберутся и работать не начнут! А не будет помогать – кинь им тряпку, да плесни в камеру ведро воды, не захотят киснуть, возьмут в руки тряпку, ну а не станут убирать, ты им тогда ещё хлорочки сыпани… для дезинфекции,.. вот тогда и посмотрим, кто тут музъжик, а кто баба! Зверята! – Хашимов зло сплюнул, пожал начальнику первого караула ладонь и вышел прочь.
***
Седьмая рота. Канцелярия– Слушай! А почему ты этих-то посадил на губу? Почему не дедов? Майер смотрел с удивлением на Хашимова. – Ведь вся эта хрень от них исходит. Они – лидеры.
– Если бы не дежурный по полку, я бы вообще никого не садил. Утром – учения! Да мы бы тут и сами разобрались бы. А ты чё, жить собрался по Уставу?! Далеко на Уставе не уедешь. Я живу по понятиям. Знаю, кого нужно на губу, а кого трогать не надо. Трогать тех, на ком всё и держится-то нельзя! С ними надо договариваться. А вот они уже сами порядок-то и наведут. Нам ведь нужен результат! А? Я верно говорю? А? Майер!
Майер пожал плечами.
– Посмотрыш! Вот потому-то меня бойцы и слушаются. А у тебя, вон разбежались! Систему ты не поменяешь. Слабого всегда будут чмырить. А начнёшь лидеров давить, то, во-первых, можешь зубки себе переломать, а во-вторых, «бандерлоги» тебе тогда сами на голову залезут. Смотрел «Маугли»?! Пока есть удав, «Бандар-логи» будут сидеть смирненько. Главное, чтобы удава ты контролировал! Ясно?
– Что-то я тебя с трудом понимаю! – Майер пожал плечами.
Хашимов лишь усмехнулся в ответ.
***
Седьмая Рота. Кубрик– Ты где так научился? – Разоренкин смотрел с уважением и любопытством на Ткаченко.
– А ты чё не помог, когда меня это зверьё окружило!?
Разорёнкин лишь пожал плечами.
– А мне какое дело. Это были не мои разборки. Мож ты там сам виноват! Я-то тут причём!
(Да! Действительно. Разоренкин ни во что не вмешивался. Его самого никто не трогал. Во-первых, этот москвич был здоровяк. Во-вторых, это вчерашнее разбитное хулиганистое дитя московских улиц было таким же разбитным и хулиганистым дитём и здесь. Жизнь по уставу была явно не для него. Словно притягивая к себе весь вселенский негатив, он был своим и среди славян, и среди приблатнённых азиатов и кавказцев. Будучи неотъемлемым участником большинства ночных «блатных» сборищ, он всегда знал, где и как раздобыть бутылочку «Боровички»* (*Разновидность местной словацкой водки с противным резким можжевеловым запахом) да несколько банок тушёнки с полкового продовольственного склада, а когда и чего-нибудь покруче. Чем и был ценен для всех. Он бы мог быть и лидером, но он был «волком-одиночкой». Но не один лишь Разоренкин жил для себя. Даже будучи «хорошими мальчиками», русские в своём большинстве были «волки-одиночки», объединяясь, в лучшем случае, лишь в микрогруппы, не способные, как правило, серьезно противостоять агрессии других национальных групп. А высокий эгоцентризм, присущий особенно москвичам, таким, как Разоренкин, выделял часто москвичей в отдельную группу, держащуюся обособленно от остальных славян. Всё это делало большинство русских разобщенными эгоистами, живущими каждый за себя, например раздробленной «Киевской Руси». Бьют русского, – «а не моё дело! А мож, он сам виноват. А мож, это за дело его! Не меня трогают, и слава богу!» – никто не встревает. Бьют того же узбека – подобно туче слетаются все мыслимые и немыслимые земляки последнего и крушат обидчика, давя численным превосходством. Какой бы тот ни был «супергероем». Ткаченко повезло. Его не забили под шумок толпой. Не успели. Да и его особые способности в рукопашной явно произвели впечатление и снискали благосклонность наиболее влиятельных в роте, да и полку, фигур.)
– Ну-ну, – Ткаченко вразвалочку направился к своей кровати. Бойцы уважительно расступались.
– Никаноров! Подъём! – услышал Ткаченко у себя за спиной голос Ибрагимова.
– Давай, Никаноров, быстро! Подъём! Идёшь драить очко вместе с Ивановым!
Хотя Никаноров и имел звание «младшего сержанта», недавно полученное после учебки в Бердичеве, где он от души понатирался «Машкой»9 паркетных полов, полученное звание было лишь формальностью и не спасало Никанорова. Было всем совершенно ясно, что командовать он никогда не сможет, и оставался он «свободным младшим сержантом» без должности, на позиции рядового бойца. Вопрос разжалования его в рядовые был лишь вопросом времени. Этот Свердловский парень украинского происхождения был не в силах противостоять «землячеству». Ему, как и Иванову, был уже изначально уготовлен удел зашуганного чмыря на все долгие два года! Удел изгоя. Существует ли хоть одно общество без изгоев? Есть изгои и в Армии – зеркале современного общества. Относись бы все к другим людям так, как бы хотели, чтобы относились к ним, то не было б ни изгоев, ни чмырей…
Ткаченко посмотрел на ссутулившуюся фигуру своего земляка, суетливо запихивающего ногу в сапог с накинутой поверх портянкой. Махнул рукой.
– Верно говорит Разорёнкин. Каждый сам за себя. Я чё, должен ему что ли?! Мне вон – никто не помог. Пускай сам выкарабкивается.
Веки Ткаченко сомкнулись, и он улетел в пучину сна…
1.4 (87.08.25)
Штаб ЦГВ10. Август 1987 г. МиловицыПройдя через всю Чехословакию, поезд остановился на станции Миловицы, перегруженной военными. Это был его конечный пункт назначения. Здесь базировался штаб Центральной Группы Советских Войск. Лейтенант Тимофеев выгрузился на перрон, любопытно разглядывая всё вокруг. А всё вокруг представляло собой «заморскую диковинку», как бы выразилась его бабушка.
***
Штаб ЦГВ. Подполковник, пролистав личное дело очередного новоиспечённого лейтенанта, нахмурился.
– Так, лейтенант Тимофеев. У вас были нарушения воинской дисциплины в училище?
– Никак нет!
«Ну вот, – подумал Тимофеев, – снова начинают ворошить прошлое».
– Как, совсем? – удивился подполковник.
– Ну, были небольшие нарушения, не без того, – покосился в сторону Владислав: «Эх, знать бы, что там, в личном деле-то накатали!»
– Интересно, а тут вот у вас написано: «имелись случаи нарушения воинской дисциплины, пререкания с командирами», – наверное, женщин любите, в самоволки бегали, а? В чём состояли эти ваши нарушения дисциплины?
– Да нет! Не в этом дело… э-э-э, – замялся юноша.
– Зна-а-ю, зна-а-ю я в чём тут дело! Ну, да ладно, служите пока, а там мы посмотрим! Отправим вас щас в 30-ю Гвардейскую Иркутско-Пинскую. Там вас быстро научат Родину любить!..
Иркутско-Пинская 30-я дивизия. Это было одно из самых прославленных соединений наших Вооруженных сил. Полностью оно именовалось так: гвардейская Иркутско-Пинская орденов Ленина и Октябрьской Революции трижды Краснознаменная ордена Суворова мотострелковая дивизия имени Верховного Совета РСФСР. Дивизия была сформирована во время Гражданской войны из бойцов Южно-Уральской партизанской армии. В ноябре 1918 года она стала называться 30-й стрелковой, и ей присвоили наименование Иркутская. Это было признание боевых заслуг дивизии, сыгравшей заметную роль в разгроме войск Колчака (что не может не вызывать двойственное чувство сегодня, смешанное с глубоким сожалением. Соединение наградили орденом Красного Знамени.
Первым командиром знаменитой дивизии был Василий Блюхер. Именно под его предводительством красные войска отбили у Колчака 13 железнодорожных вагонов с золотым запасом России. Переброшенная с берегов Байкала на юг страны, 30-я стрелковая громила войска Врангеля. Она штурмовала Крым и была награждена вторым орденом Красного Знамени. (Сегодня грустно представлять многие тысячи беженцев из Крыма на трагически известный остров «Лемнос», названный в наши дни известным Российским режиссёром Никитой Михалковым «Русской Голгофой»). В годы коллективизации бойцы дивизии выполняли приказ советского правительства – загоняли людей в колхозы и подавляли крестьянские восстания. (Также весьма печальная страница Российской истории). За успешное выполнение не свойственной для армии политической задачи дивизию наградили орденом Трудового Красного Знамени.
Дислоцируясь в районе Днепропетровска—Запорожья, 30-я стрелковая дивизия строила ДнепроГЭС, за что и была награждена высшей наградой страны – орденом Ленина.
Весной 1941 года дивизия передислоцировалась в Молдавию. Здесь началось переформирование ее в горно-стрелковую. Однако оно не было завершено, что чрезвычайно осложнило обстановку в дивизии перед войной. По новому штату прежняя структура воинской части упразднялась. Полевые пушки и амуниция подлежали замене на горные орудия и вьюки. Но получилось так, что свои пушки дивизия отгрузила, а новых не получила. И 22 июня поднятые по тревоге полки пошли к границе, не имея своей артиллерии.
К исходу первого дня войны все стрелковые полки заняли оборону в районе селений Скуляны – Герман. Бои против румынско-немецких войск у реки Прут 30-я дивизия под командованием генерал-майора Галактионова вначале вела успешно. Ее бойцам даже удалось взять в плен большое количество румынских солдат.
Но создав превосходство в живой силе и технике, немецкие войска прорвали оборону 30-й дивизии. С этого времени начинается ее отступление с жестокими оборонительными боями за Днестр, Донбасс, Ростов-на-Дону, Кубань и предгорья Кавказа. Однако отступление воинов 30-й дивизии бегством назвать было нельзя. Не зря в 1942 году она стала 55-й гвардейской.
На рубеже реки Реут рядом с границей Молдавии и Украины дивизия продержала оборону девять дней. Более того, она перешла в наступление. 16 июля 1941 года полки получили приказ командира дивизии: перерезать шоссейную дорогу Бельцы – Оргиеев. Утром 17 июля части дивизии начали стремительно продвигаться вперед, уничтожая опорные пункты и огневые точки врага. В течение дня 256-й полк, например, прошел с боями более 20 километров, освободив несколько населенных пунктов.
Немцы вынуждены были перебросить сюда дополнительные силы. Но добиться того, на что рассчитывало наше командование – ослабить нажим врага на стыке Южного и Юго-Западного фронтов – не удалось. Гитлеровцы так глубоко вклинились на восток, что возникла угроза окружения основной группировки войск 9-й армии. Поэтому 30-я дивизия получила приказ сосредоточиться на исходном рубеже, то есть на том, с которого начала наступление.
5 августа 1941 года гитлеровцы вышли к Днепру. 30-я дивизия неоднократно попадала, казалось бы, в безвыходное положение, но всякий раз ей удавалось выйти из окружения и избежать разгрома.
Под Каховкой противник превосходящими силами стал теснить наши подразделения. В этот критический момент полковник Сафонов, командир 256- го полка, бросил в бой последний резерв – взвод конной разведки. 25 кавалеристов выскочили из балки и на полном скаку врубились в фашистскую пехоту. Как узнали после из показаний пленных, взвод из 25 сабель противник принял за кавалерийский эскадрон. Своей внезапной атакой разведчики помогли остановить немцев. Но ненадолго. Фашисты форсировали Днепр, переправили на левый берег танковые соединения и устремились на юг в тыл нашей армии.
Уже более семидесяти лет прошло с того осеннего дня 41-го года, когда воины Иркутской дивизии преградили путь танковым соединениям Клейста. Произошло это на севере Ростовской области в районе большого селения Куйбышево. Утром 1 ноября немцы обрушили на боевые порядки дивизии сильный артиллерийский огонь. За первой волной бомбардировщиков последовала вторая, потом двинулась в атаку лавина немецких танков. Если бы такое случилось с менее опытной и закаленной в боях дивизией – не миновать бы поражения. Но воины Иркутской до последнего оставались на своем рубеже. Упорная оборона сорвала план Клейста, войска которого хотя и захватили Ростов-на-Дону, но через неделю вынуждены были бежать из города под натиском контрнаступления Красной Армии. Участвовала в этом наступлении и наша дивизия.
После вторичного взятия Ростова-на-Дону и Краснодара немцы самонадеянно заявили: «Ворота Кавказа открыты». Они собирались чуть ли не триумфальным маршем пройти по кубанской равнине к горам Кавказа. Не вышло. Дорогу гитлеровской танковой армаде преградили советские войска. Немало подвигов совершили в те дни бойцы Иркутской дивизии.
Трудно переоценить ту роль, которую сыграла Сталинградская битва для коренного изменения обстановки на всем советско-германском фронте. И в первую очередь на Кавказском направлении. По существу, вражеская группа армий, действовавшая на Северном Кавказе, оказалась в глубоком мешке. Необходимо было его «завязать». В этом и заключался замысел наступательной операции Иркутской мотострелковой дивизии в январе 1943 года.
За штурм Новороссийска Иркутская дивизия первой в нашей армии удостоилась полководческого ордена Суворова.
В ноябре 1943 года части дивизии освободили в Керчи район Аджимушкайских каменоломен, где находились знаменитые катакомбы – подземная крепость партизан.
Летом 1944 года дивизия приняла участие в блестяще проведенной Белорусской операции «Багратион». Действуя в наиболее труднопроходимых лесисто-болотистых районах, ее воины освободили сильно укрепленный город Пинск, за что дивизия и стала именоваться Иркутско-Пинской.
В дальнейшем она вела бои в Восточной Пруссии и штурмовала Берлин. Войну завершила под Прагой, сражаясь с частями фашистского фельдмаршала Шернера еще несколько дней после 9 мая 1945 года.
После окончания войны дивизию перевели в структуру Белорусского военного округа с местом дислокации – г. Марьина Горка. В 1968 году в Чехословакии пришло к власти антисоветское правительство. Тогда политическое руководство СССР приняло решение о вводе войск на территорию ЧССР. Иркутско-Пинская дивизия вновь была втянута в политику…
«Дивизия» – тактическое соединение в сухопутных войсках. Дивизионная организация войск появилась в России и Франции в начале XVIII века, а в XIX веке прочно закрепилась в армии большинства государств. Перед Первой мировой войной в состав пехотной дивизии русской армии входили 4 пехотных полка, 1—2 эскадрона конницы и от 30 до 70 орудий дивизионной артиллерии. Общая численность дивизии составляла 15—16 тысяч. В СССР в ходе Великой Отечественной войны штаты дивизии неоднократно изменялись, и организация совершенствовалась за счет поступления новой боевой техники и вооружения. По штатам 1943—1944 годов общая численность мотострелковой дивизии составляла 9400, а гвардейской – 10600 человек. Однако реальная численность состава, как правило, была ниже штатной).11