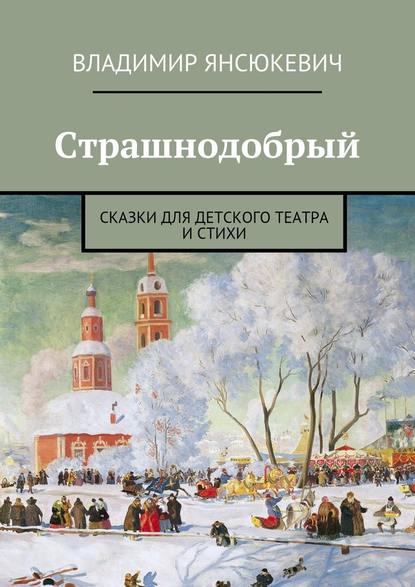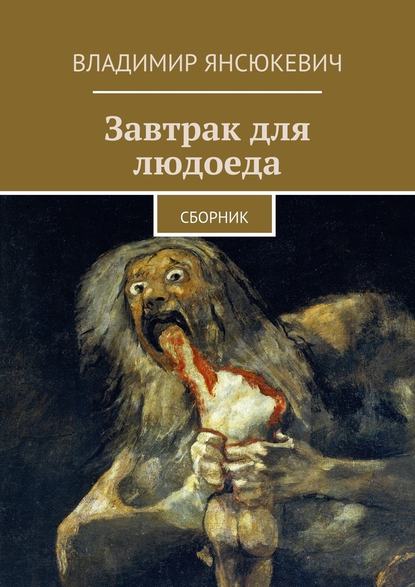Полная версия
Игра с тенью
Бросов налил.
– С днём Халявщика! – весело сказал Малевский и так же лихо опрокинул рюмку в алчущее горло.
А потом допил и остальное, за День Вора в законе, за День Педераста и прочее, благо хозяин бутылки не возражал. Но о дате конца Света благоразумно умолчал. Видно, приберёг для более проблемного случая.
Наводка на Бросова сыграла свою положительную роль. Махлевский на этот раз оказался правдивей барона Мюнхгаузена, а Мария Тронова – пунктуальней английской королевы. Она позвонила ему на следующий день и назначила встречу в том же буфете.
Ровно в четыре, как у Маяковского, она вошла в дверь, с которой Бросов, устроившись в углу и отставив в сторонку лишние стулья, не сводил глаз. Она вошла неторопливо, деловым шагом, с высоко поднятой головой, как хозяйка. Он узнал её сразу. Во-первых, это было новое лицо на буфетной территории ЦДЛ, во-вторых, её модный прикид очень выделялась на фоне литераторского полузатрапеза, а в-третьих, Махлевский и в этом не соврал – в ней, действительно, было что-то и от Афродиты, и от Венеры, он бы добавил, и от Екатерины Великой, а вот насчёт нимфоманки Бросов засомневался. И не только потому, что не был спецом в этой области, подобно Махлевскому, а потому что выражение её глаз говорило совсем о другом. И вообще, весь её облик скорей напоминал ему дубовую корабельную ростру, тщательно вырезанную искусным мастером из цельного куска, с соблазнительными формами и в то же время недоступную, величественную и целеустремлённую, которую не сломит ни девятый вал, ни подвернувшийся на пути корабля случайный айсберг со своей коварно-таинственной подводной частью. Об этом он сделал в своём внутреннем писательском дневнике особую пометку.
Бросов встал, поднял руку, дабы обратить на себя внимание, одновременно стыдясь своего плебейского жеста. Но она и без того сразу направилась прямиком в приготовленный им угол.
– Господин Бросов? – спросила негромко, но приветливо, твёрдым голосом, богатым обертонами и приятно вибрирующим, пристально разглядывая его фигуру.
Бросов почувствовал, что краснеет. Ещё никто не называл его господином. Тем более, такая эффектная женщина, не попавшаяся даже в обычно урожайные сети Махлевского. И хотя она выглядела младше его лет на пять, вмиг представил себя инфузорией под микроскопом, суетящейся на одной месте в поисках опоры. Она накатила на него океанской волной, и он едва не захлебнулся. Он уже был её рабом, а она госпожой. Эта начальная встреча и определила характер их будущих взаимоотношений.
– Да, это я, – голос прозвучал хрипло и глухо, он откашлялся, тайком вытирая о брюки вспотевшие ладони, ибо из накатившей волны протянулась к нему рука помощи.
– Рада встрече.
– Что вам предложить… Чай? Кофе? Бутерброд?
– Обойдёмся без бутербродов, – её большие, правильно очерченные, губы тронула ироническая улыбка, она раскусила его мгновенно. – Кофе со сливками, в маленькой чашке, сахар один и на блюдце.
– Понял. Присаживайтесь. Я сейчас…
Разговор был коротким, но предельно содержательным. Тронова довольно чётко обрисовала суть вопроса, снабдила Бросова необходимыми материалами в виде рекламных буклетов по теме и со значением пожала руку, уже на прощанье. Бросов в этот же день приступил к заданию и не мыл руку, приложившуюся к её руке, до тех пор, пока не поставил точку. Задание оказалось для него лёгким, воображение не подвело. Заказчица осталась довольна и тут же подбросила ещё одно: сценарий для рекламного видеоролика на телевидении. И это задание он выполнил довольно изобретательно и в кратчайшие сроки. Но когда Тронова стала расплачиваться с ним за проделанную работу, он решительно отказался от вознаграждения, чем не столько удивил её, сколько поставил в затруднительное положение. Однако она быстро сориентировалась – пригласила в ресторан. От ресторана Бросов не отказался…
Нельзя сказать, что он влюбился в неё, но что покорился ей – бесспорно. Положить её на лопатки, как советовал Махлевский, Бросову так и не удалось – она легла сама в нужный момент, и сама диктовала и в первый, и все последующие разы, что ему, Бросову, делать. И тот, кто в определённый момент оказался снизу, действовал таким образом, словно он был сверху, а пребывающий наверху, принял на себя роль подчинённого.
Со временем подобное соотношение ролей в их связи усугубилось и стало напоминать ему расклад в той самой революционной ситуации, описанной вождём мирового пролетариата, которая в течение семи десятилетий была известна каждому советскому школьнику: когда низы уже не хотят.., а верхи не могут… Они прожили вместе неполных семь лет, и на четвёртый год их супружества между ними стали возникать характерные для взаимного отдаления диалоги типа нижеследующего:
– Почему ты разговариваешь со мной в приказном тоне? – возмутился однажды ни с того ни сего муж, до того годами безропотно сносивший подобное к себе отношение.
– Потому что я говорю тебе, что надо делать, а ты не делаешь! – парировала удивлённо жена.
– А почему я должен делать так, как ты говоришь?
– Потому что так будет лучше!
– Для кого лучше?
– Иди ты, знаешь куда!
Бросов приободрился – подобные ответы возникают, когда крыть нечем.
– Не знаю, назови точнее. Может, вместе наведаемся.
– Только без меня!
– А это выход, Матрона! – бросил он с улыбкой.
Но это был ещё не выход. До выхода оставалось несколько лет. И с тех пор Бросов стал называть жену Матроной. Гласно – как бы играючи объединяя в одном слове имя и значимую фамилию. А негласно, подспудно – за её командную должность в семье, которую она присвоила себе не совсем демократическим путём, то есть, без предвыборной суеты – в отсутствие предварительных дебатов и последующего семейного голосования. Мария была женщиной умной, образованной и волевой, она сразу поняла значение своего нового крещения и приняла его безоговорочно, как должное. А в недалёком будущем, когда они уже расстанутся, даже утвердила его в качестве бренда своей фирмы. Собственно, семьи в её классическом варианте у них не существовало изначально. Они поженились на перевале веков. Он тогда был начинающий писатель, только что вернувшийся из Чечни. После бесконечных ночёвок в горах под обстрелом, после изнуряющей жары и дикого холода, в кровавой атмосфере ненависти и восточной непредсказуемости, после многих месяцев грубого походного быта, сопряжённого с ежечасным риском для жизни, о чём он пока никому не рассказывал (были моменты, когда он праздновал труса), оказаться в тёплых объятиях красивой женщины было для него сущим раем. Она его вырвала из пут депрессии, и он прилепился к ней, чувствуя некоторую благодарность за избавление. И здесь Махлевский опять оказался прав – лекарство для Бросова было найдено, и, что самое главное, оно подействовало. Пришлось целую неделю поить приятеля. А вот насчёт отстёжки от гонораров было сложнее. В какой-то момент Бросов сел за письменный стол и за год, пытаясь восстановить прежние, сожжённые на варварском костре, записи, сочинил серию репортажей (репортажей не в прямом смысле, а как авторский приём) о Чеченских событиях, свидетелем которых ему пришлось быть. И вот уже замаячила впереди слава подобная славе автора «Севастопольских рассказов». Матроне понравилось то, что написал её муж, и она решила его облагодетельствовать. Выделила энную сумму, нашла издателя, обрисовала ему подробно, во всех мелочах, каково должно быть издание – с подачи мужа, разумеется – и всё уже было на мази, подписан контракт и проект был запущен в производство. Но ближе к тому дню, к которому был обещан сигнальный экземпляр, они узнают, что издатель якобы обанкротился и смылся за границу, подальше от своих заказчиков. И, как выяснилось позже, к изданию книги даже не приступали.
С этого дня Матрона заявила мужу, что снимает с себя ответственность за судьбу последующих его публикаций, не вложит в них ни копейки, а займётся делом более надёжным и, что немаловажно, весьма прибыльным. Пускать деньги на ветер не входит в её планы, достаточно и того, что отец потерял.
Отец Матроны в советское время был директором крупной торговой базы, которая поставляла продукты высшего качества в различного рода номенклатурные учреждения. И это объясняет многое. Сидя на дефицитном товаре, трудно было удержаться от соблазна – попользоваться своим положением. Но его торгашеская нечистоплотность в новые времена обернулась привилегией. Тот, кто считался вором и спекулянтом при «развитом социализме», стал авторитетным человеком при «диком капитализме» (капитала, как оказалось, без воровства не нажить, и потому народонаселение в то время наши демократы планомерно приучали к мысли, что искусный грабёж с подачи государства есть не преступление, а даже некая коммерческая доблесть). И нажитый (то есть, «прихватизированный» источник национального дохода) капитал должен был непременно пойти в дело, с тем, чтобы в недалёком будущем снабжать грабителя неслыханными дивидендами. Но, как видите, не повезло – «грохнули невзначай», по выражению Казимира Махлевского, такие же «капиталисты», конкурирующие загребалы. А его дочь, оказавшаяся умнее и расторопней папаши, на оставшийся в её владении наследственный капитал решила закрутить свой, чисто женский, бизнес. И надо сказать, преуспела в этом.
Их окончательная размолвка произошла после того, как она узнала себя в одном из персонажей его нового рассказа. Как-то утром, в воскресный день, Бросову захотелось пивка, и он отправился за ним в ближайшую палатку, оставив неоконченную рукопись на столе.
Матрона в это время бродила туда-сюда по комнате – сушила феном волосы и, в очередной раз подойдя к столу, краем глаза полюбопытствовала, о чём же теперь пишет её неудачливый муж и почему не показывает написанное, как случалось раньше. И углубившись в чтение, отключила фен, села и вдруг поняла, что это про неё. То есть, не совсем про неё, ибо некоторые обстоятельства, описанные в сюжете, не сходились с обстоятельствами её жизни, но списано явно с неё, именно она внушила автору весь негативный пафос прочитанного ею отрывка, она это усекла мгновенно. Ей хватило одного абзаца для того, чтобы дыхание стало тяжёлым, а глаза налились ядом. Вот этот абзац:
«…её бы нарядить в парчовое платье на фижмах, да накинуть на плечи алую мантию, отороченную собольим мехом, да водрузить на голову императорскую корону, да вложить в руки скипетр и державу, была бы вылитая Екатерина Великая»…
Нет, это ещё куда ни шло, это только начало, терпимо. Потом промелькнуло нечто эротическое – про целую армию любовников. Тоже терпимо, сие напрямую к ней не относилось, уличить её с этой точки зрения было не в чем – она хоть и была неистовой фантазёркой в сексуальном аспекте, лишних связей на стороне себе не позволяла – и потому этот фрагмент она пробежала глазами, не особо вчитываясь, а вот дальше…
«Таков был и её неторопливый размеренный шаг, так же высоко она несла голову, так же царственно держала торс с выдающейся грудью, не знавшей сладкого чмоканья младенца, и губы её растягивала та же снисходительная улыбка, сдобренная изрядной долей фальшивой приветливости. И разговор её был неспешный – она мелодично тянула гласные, прислушиваясь к их звучанию, и, по возможности, смягчала согласные, слегка картавя, словно гладила языком по звуку, срезая острые углы и давая выговориться каждой букве без остатка, так отчитывают провинившегося холопа, но и без излишней резкости – подобием речевого хлыста; и в то же время в её интонации присутствовала явная властность, властность собственной правоты, высказанной внешне ласково, но с неизменной твёрдостью в голосе, с ощутимым налётом иезуитской проницательности, когда собеседник стоял перед ней с повинной головой; или с примесью деланно печальной укоризны в том случае, если кто-то осмеливался дерзко не соглашаться с её позицией в каком-нибудь не стоящем выеденного яйца вопросе, мол, сам виноват в своих бедах, сам напросился на плётку, не обессудь. Ей каким-то образом удавалось совмещать в себе мать Терезу и надзирательницу нацистского концлагеря, какой была небезызвестная Эльза Кох, супруга начальника Бухенвальда, которая обладала садистскими наклонностями и при каждом подвернувшемся под руку случае давала им волю. Будучи коллекционером татуировок, она, приметившая на каком-либо заключённом интересный рисунок, обрекала несчастного на неминуемую гибель. Она даже позволяла себе, нет, не позволяла! – слишком лёгкий глагол для такой крутой особы, напрочь лишённой самоконтроля – она почитала за особый шик выходить в свет с сумочкой, сшитой из человеческой кожи, и хотела, чтобы знал об этом каждый, с кем она на званых вечерах каким-то образом соприкасалась…».
На этом рукопись обрывалась.
Прочитав лежавшую перед ней страницу, написанную на одном дыхании, без единой помарки, Матрона, как говорится, вошла в ступор и, брезгливо передёрнувшись всем телом, неподвижно уставилась в окно; а заслышав скрежет ключа в замке, медленно поднялась и, подобрав монархический шлейф, царственной походкой продефилировала в коридор и закрылась в ванной.
Через полчаса, когда Бросов снова сидел за столом, склонившись над рукописью, и, потягивая пивко, выводил последующие слова о «жене-надзирательнице», Матрона вышла из ванной и, изобразив на лице всю скорбь женской части российского населения, предложила мужу разойтись по-хорошему. На недоумённый вопрос мужа «с чего это вдруг?», она молча показала глазами на рукопись и угрожающе помотала растрёпанными волосами, которые торчали во все стороны, как змеи на голове медузы Горгоны, что должно было означать: «А вот это, мой милый, ни в какие ворота! До чего додумался, бездельник! Как бы не пришлось пожалеть! Я его, можно сказать, содержу, а он, скотина эдакая, вон что за моей спиной вытворяет!» Последние строки взорвали самолюбие Матроны. Она не могла простить мужу ни мать Терезу, ни тем более нацистскую надзирательницу. И хотя муж в ответ рассмеялся и стал уверять, что это только нужная ему для рассказа краска, и что он не совсем её имел в виду, а точнее, совсем не её, и что это не окончательный вариант, и вообще всё ещё не раз будет переписываться, была неумолима. Потому что, собственно, не рассказ послужил главной причиной вышедшего из берегов терпения. Причин было множество: и отсутствие денег, и, в связи с их отсутствием, неустроенность быта, а в связи с неустроенностью быта, отсутствие желания приходить домой, и то, что муж хотел ребёнка, а жена откладывала беременность на неизвестное потом, когда «встанем на ноги» – причём, когда она впервые произнесла «встанем на ноги», Бросова мгновенно отбросило к истокам первобытного мира, и он, отнюдь не обременявший свой мозг теорией Дарвина, почему-то сразу вообразил себя и жену двумя человекообразными обезьянами, слоняющимися по дикому лесу в поисках орудий труда, которые и должны были бы поставить их, по заверению Фридриха Энгельса, на ноги, то есть сделать прямоходящими; но для этого понадобятся сотни тысячелетий! и уж ни о каком ребёнке тогда и заикаться не придёт в просветлённую обезьяньим трудом голову! и бесконечные ссоры по этому поводу и по любым другим; к тому же Бросов, подавленный всеми неурядицами и самоуглубившийся, всё чаще отлынивал от супружеского долга, стал постоянно выпивать с такими же потерянными коллегами, которые жаловались на то, что их не печатают, а писать так, чтобы печатали, считали для себя зазорным, и ничего не делали, чтобы заработать на жизнь каким-то иным способом – всё это в целом неотвратимо вело к взаимному отчуждению. Да, причин было множество, и они собирались постепенно, исподволь наполняя до краёв сосуд обоюдной неприязни. Злополучный эпизод в рассказе стал последней каплей дёгтя в бочке фальсифицированного мёда, даже не каплей, а скорее, вовремя и чётко обозначившимся поводом для окончательного разрыва. Бросов и сам понимал, что такая жизнь, как у них, неприемлема, но почему-то упирался. Наверное, всё-таки любил её, или просто так ему спокойней жилось, и он не хотел перемен, суливших массу дополнительных неприятностей. Он и сам не мог разобраться в этом.
Матрона проглотила сопротивление мужа и молча удалилась на кухню. А через два дня, когда Бросов улёгся на диван с тем, чтобы, как обычно, вздремнуть после обеда, открыла на кухне газ и отправилась по своим делам. Спас ни о чём не подозревающего мужика неожиданно распахнувший незапертую створку окна сквозняк. Зелёный от дурноты, подступившей к горлу, задыхаясь, Бросов кинулся к окну, отдышался, затем, сообразив в чём дело, зажал нос, в несколько прыжков достиг источника своей несостоявшейся гибели и перекрыл вентиль. Жена потом яростно отнекивалась, не признавалась в содеянном, говорила, что вышло случайно, потому что её срочно вызвали на работу в связи с попыткой ограбления её магазина, и она не соображала, что делала и, возможно, включила, чтобы подогреть чайник, а потом отвлеклась на телефонный звонок и забыла зажечь.
Возможно (и скорей всего), так оно и было. Однако Бросов быстро сообразил – всё-таки он был писателем и кое-что понимал в людях – даже если она оставила открытым газ непреднамеренно, её непредсказуемые замашки чреваты для него смертельной опасностью, что с ней шутки плохи, и на следующий день, второпях собрав все свои рукописи и закинув в чемодан кое-что из одежды, переехал к матери на Мичуринский проспект. Лучшая форма защиты – отступление на заранее подготовленные позиции, под крыло произведшего тебя на свет и уже только поэтому неспособного предать.
Накануне своего сорокалетия, Вадим Бросов испытал необъяснимую дрожь в сердце. И что самое мерзкое, она не являлась признаком той или иной телесной болезни, которую в итоге можно было бы вовремя распознать и преодолеть, перейдя на здоровый режим или принимая соответствующие лекарства, а сигнализировала о чём-то более сокрушительном, что годами подспудно вызревало в его душе, разверзаясь чёрной дырой и поглощая все жизненные соки. И незадолго до часа своего рождения он, наконец, нашёл ему имя: ПУСТОТА. Бездонная и кромешная пустота.
Это неожиданное открытие потрясло его. И в день своего сорокалетия он до потери сознания оттянулся в дружеской попойке. Наутро он ничего не соображал, был как полено из свежесрубленного дерева, в котором ещё бродили земные соки, уже не сознававшие своего предназначения. Голова его с утра существовала сама по себе и не столько болела, сколько была неуловима, как мыльный пузырь; плавала где-то рядом, сама по себе – то справа, то слева, то поднималась к потолку, то касалась шеи и, оттолкнувшись от неё, вновь уплывала куда-то на сторону; и само тело из-за этого было лишено устойчивости и поминутно заваливалось, ибо ноги не могли сообразить, куда им ступать в следующую секунду. В горле ссохлось и, казалось, он лишился голоса, а в желудке и прилегающих к нему пищеварительных коммуникациях хороводили неопознаваемые существа, которые хулиганили на чём свет стоит – они щипали его изнутри, кусались, раскачивались на кишках, как на качелях, прыгали на стенках желудка, как на батуте, колотили по нервам каким-то молоточками, видимо, воображая, что перед ними музыкальный инструмент, дули в кишку, издавая неприличные звуки, колошматили друг друга подручными средствами, короче, вели себя самым тошнотворным образом. И происходило это до тех пор, пока Бросов не ухитрился каким-то способом, по стеночке, доковылять до кухни и выпить, не отрываясь, стакан холодной воды. Хулиганские существа тут же с невиданной быстротой, толкаясь, то и дело падая, как протестующие демонстранты, разгоняемые из брандспойта, переместились поближе к горлу, то есть, к парадному выходу – чёрный ход их чем-то не устраивал – и едва Вадим успел добежать до туалета, выскочили из его гостеприимной оболочки всем скопом и смылись в канализационную трубу, напоследок не то что не извинившись за причинённые неудобства, но даже не попрощавшись.
Примерно в таких юмористических тонах описал он свои утренние пытки приятелю, свидетелю и активному участнику вчерашней юбилейной попойки, который позвонил ему с ранья с предложением продолжить празднество – клин клином, как говорится. Но Бросов категорически отказался и только положил трубку, как его в очередной раз стошнило.
Больше года он потратил на осмысление собственной пустоты. А по истечении этого срока вдруг вспомнил о пропавшем друге и приступил к сочинению романа о нём. Набросал несколько глав и наткнулся на неодолимую преграду – отсутствие импровизаций Кузьмы, без которых нельзя было обойтись. Стихом Вадим не владел, и никакое воображение не способно было их возместить. Кое-что из этого было когда-то записано Офелией. Но где её искать? А сам он помнил всего две строки: «Девочка бегущая к реке /Бабочкой мелькает вдалеке…» Да и замысел романа выходил за рамки общепринятой реальности и требовал всплеска воображения. Но ему чего-то не доставало для этого, нужна была кое-какая опора, дополнительные знания, и он закинул удочку в интернет.
В поисках подсобного материала он в течение месяца основательно погулял по интернет-пространству, перелопатил огромное количество сайтов с нужной ему тематикой и однажды утром, в воскресенье, случайно наткнулся на фотографию, на которой была изображена, как ему показалось, очень знакомая женщина. Её имя значилось под снимком в связи с какой-то нашумевшей в небольшом немецком городке в Нижней Саксонии фотовыставкой. Она стояла перед кирпичной стеной, увешанной шедеврами современного фотоискусства, и улыбалась. Красивая, белокурая, пышнотелая, но при этом довольно стройная. В роскошном зеленовато-изумрудном платье. Её шею обнимало колье в виде изящного растительного орнамента, усыпанного, как росой, мелкими бриллиантами, сверкающим треугольником ниспадающее на грудь и тонким ручейком стекающее в соблазнительную ложбинку. Левое запястье охватывал широкий, по-видимому, серебряный (он в этом не очень разбирался) браслет, украшенный драгоценными камнями в тон платью (похоже, изумрудами). Он вдруг вспомнил, как она (если это действительно она) однажды по телефону в ответ на его очередное любовное объяснение объявила, что выходит замуж за иностранца, и вскоре покинула страну. Красивая русская девушка, сочинявшая плохие стихи, нашла свою дорогу для возвышения «за бугром», как выражались в достопамятные времена. Неужели она? К своему удивлению, у него участилось сердцебиение, как у посрамлённого юноши, и запылало лицо. Он зашёл в skype и с необычным, давно не посещавшим его, волнением, путая клавиши, набрал в поисковике имя и фамилию, обозначенную под снимком. Компьютер сразу удостоверил существование искомого пользователя и выдал место его проживания – Германия. Однако там, где должна быть визуальная визитная карточка, «аватарка», изображение отсутствовало. А на его месте зиял серый безличный силуэт. Он помедлил. Она или не она? А потом решил: была не была, он ничего не теряет, и, зажмурившись, отправил сообщение.
Здравствуйте, Офелия Фетингофф! (возможно, ранее – Тардыкина, это ты?) Я хочу внести Вас в свой список контактов в skype. Вадим Бросов.
Ответа не последовало ни к вечеру того дня, ни через день, ни через три, ни через неделю. Значит, ошибся. Или она проигнорировала его, и такой вариант возможен. Но, что характерно, его приглашение не было отклонено. И это давало надежду. Возможно, она ещё не заходила в skype. И он терпеливо ждал. Она откликнулась только через месяц.
– Бог мой! Вадик! Держите меня! Тыщу лет ни слуху, ни духу! Ты меня слышишь? Алло! Эй!
Он по-прежнему видел перед собой серый безличный силуэт. Звучал только голос, несколько искажённый необычным акцентом, с лёгкой хрипотцой, видимо, со сна, взволнованный и в то же время томный, в котором не столько явственно проступали, но, скорее, угадывались прежние знакомые нотки. Он молчал в ожидании, когда появится изображение. Он не умел разговаривать с теми, с кем долго не встречался, не видя лица, и потому нервничал. Однако ничего не менялось. Разговор получался односторонним – она безумолку подавала реплики, а он молчал. Пауза затягивалась, и ему пришлось отвечать.
– Слышу. Здравствуй!
– Как ты меня нашёл, дорогой?
– Теперь это делается на раз. Прогресс неостановим.
– К счастью. Сколько же мы не виделись?
– Я и сейчас тебя не вижу.
– Извини. Только проснулась… в неглиже… и вообще… плохо выгляжу. Поэтому отключила камеру.
– Похоже на кокетство.
– Я не кокетничаю, поверь. Зато ты передо мной, как на ладошке. Возмужал. Появились морщины. Которые, я бы сказала, украшают тебя…
– А ты на фотографии… супер. Пятнадцать лет…
– Издеваешься?
– Я хотел сказать, не виделись пятнадцать лет.
– Ах, это… да! И мне уже далеко не двадцать пять, как ты понимаешь. А где ты видел мою фотографию?
– В интернете. На какой-то фотовыставке… Ты стоишь у кирпичной стены… Вся зелёно-изумрудная… Хозяйка медной горы…