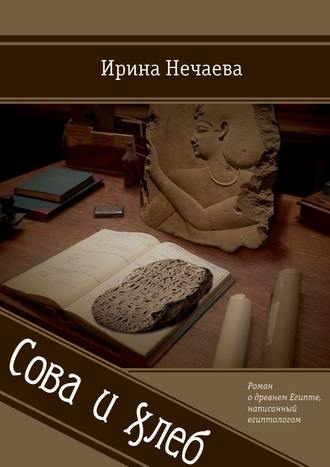
Полная версия
Сова и хлеб
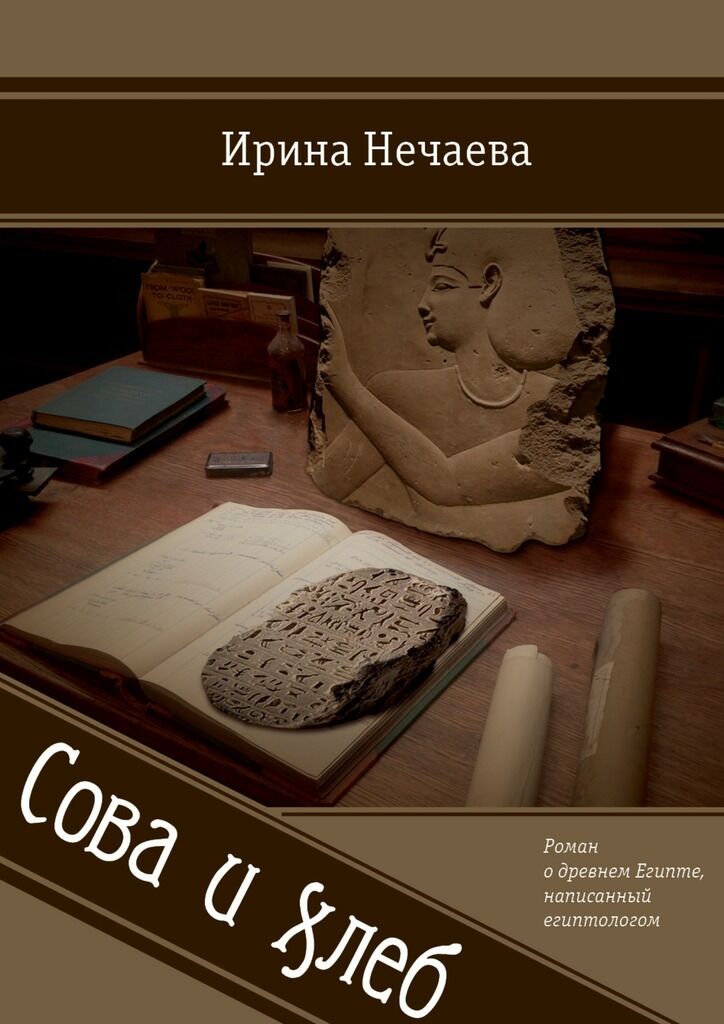
Сова и хлеб
Роман о древнем Египте, написанный египтологом
Ирина Нечаева
© Ирина Нечаева, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Пролог
В день третий месяца второго сезона половодья года девятого в белый город Уасет1 вернулись корабли, за год до того ушедшие на юг искать Землю Бога. Все пять, длинные, стройные, ничуть не потрепанные ветром и волной, они медленно шли по Великой реке2, и в воздухе вокруг отчетливо пахло сладкой смолой, главным сокровищем Пунта, Земли Бога. Обнаженные спины гребцов отливали влажной медью под лучами злого летнего солнца, суетилась команда, разбирая причальные канаты.
На носу первого корабля сидел, изрядно мешая работе, Нехси, Носитель царской печати, человек, возглавивший этот поход. Как ни старался он казаться бесстрастным, полные губы сами собой кривились в довольной улыбке. Не ему ли ее величество Мааткара, да будет она жива, здорова и невредима, год назад отдала под начало пять кораблей и две сотни людей, выбрав его из многих и многих? Не он ли в одиночку провел их по Великому зеленому морю3, избегнув и бурь, и страшных бродячих волн в два десятка локтей, и хищных рыб с веретенообразными телами и вонючим мясом? Не он ли шел впереди всех по чужой жаркой земле, где люди селятся на деревьях, как птицы? Шел – и не боялся чужих ножей и копий. Не его ли почтительно встретил царь Пунта и его жена – отвратительно жирная, похожая то ли на карлика Беса, то ли на злобного речного бегемота? Разве не склонились они перед величием владыки Двух земель4, разве не признали себя его слугами? Разве не жил Нехси в их хижине, подобной пчелиному улью, разве не воздавали ему почести, равные царским? Разве не вез он в Уасет драгоценную смирну и ладан, и другие благовонные смолы, и дерево, черное, как кожа нубийских наемников, и другое дерево, идущее на строительство кораблей, и слоновьи бивни, и шкуры царственного леопарда, и жирафьи хвосты, и золото, и краску для глаз, и невиданных животных для царского двора, и стройных остроухих собак с золотой шерстью, так похожих на бога Инпу5, и другие прекрасные вещи? Разве не его встречает весь белый город?
Весточку о точном часе прибытия кораблей он благоразумно отправил заранее, и на берегу у пристани толпились, кажется, все, кто не был занят делом в этот утомительно знойный день, и конечно те, кто обязан был присутствовать здесь по долгу службы. Но восхищение простолюдинов не волновало Нехси – сейчас, оставив команду разгружать корабли под бдительным надзором писца царской казны, он отправится прямиком во дворец.
Пусть великому царю Мааткара Хатшепсут, да будет она жива, здорова и невредима, и негоже ожидать своего верного слугу на пристани, она примет его немедленно, только тем и показав свое нетерпение. Совсем скоро, еще до заката солнца, он бросится ниц перед троном, и невозмутимое, как погребальная маска, и такое же прекрасное, лицо живого бога дрогнет почти человеческой радостью. К вечеру Носитель царской печати Нехси прибавит к своему имени еще титул-другой – успех похода в Землю Бога превзошел все ожидания.
…Мягкий удар нарушил размышления Нехси – корабль ткнулся носом в причал, на берегу поймали канаты, загомонила толпа, раздались приветственные крики, и Носитель царской печати поспешно принял надменный и отстраненный вид. Он первым сошел на землю, принужденно улыбаясь взревевшей черни. Дружески поздоровался с писцом царской казны, встречавшему его у самого причала, и препоручил его своему ближайшему помощнику Небмени. И, не теряя времени, направился в сторону дворца – грузом займется Небмени, боги подождут, домашние тем более, но заставлять ждать царя никак нельзя. Она и без того ожидала этого целый год.
Толпа расступалась перед Нехси, но он все равно привычным жестом прижимал руки к телу, опасаясь за тяжелые дорогие браслеты, и внимательно смотрел, куда ставит ногу – навыки жизни в шумном столичном городе никуда не делись за год.
Вечером, должно быть, будет праздник во дворце. И уж наверное, в городе – двести десять моряков вернулись не только живыми, но и изрядно разбогатевшими, то-то радость для двухсот десяти семей.
И никому – ни Нехси, ни команде, ни горожанам, ни чиновникам, яростно спорившим с Небмени, ни царю Мааткара – не было дела до молодого парня, тихо стоявшего у самого причала и мрачно смотревшего на корабли. То есть до Хора Канехет-хаиме-Уасета, Хора в Золоте Джосера-хау, Двух владычиц Уах-несит, царя и государя Менхеперра, сына Ра Тутмоса, да будет он жив, здрав и невредим. Почти никто не узнавал живого бога, самим Амоном назначенного владеть Двумя землями, и уж точно никто не замечал.
Менхеперра, Тутмосу, едва минуло двадцать лет, одиннадцать из них он был царем, и девять из этих одиннадцати – не был. На троне его деда восседала женщина. Жена прежнего царя и мачеха нынешнего. Пусть она и называла себя царем, пусть приказывала изображать себя в полном царском уборе, пусть ставила свои статуи в образе бога Усира – все равно она оставалась всего лишь женщиной. Недолго боги будут терпеть такое нарушение мирового порядка Маат…
Но пока владыке Двух земель оставалось немногое. Приносить жертвы на храмовых праздниках, стоя за спиной мачехи – и то в нужные дни она старалась услать его подальше. Надевать синюю корону войны и вести за собой войска, когда бунтовали жители пустынь. Много ли славы добудешь, усмиряя крошечные племена жалких кочевников? А еще что? Бить уток в камышах, стрелять из лука, править колесницей… Любить молоденьких наложниц из стран Хару и Речену. Работать с глиной в уединенных покоях – и скрывать это, ведь не подобают царю такие занятия. Хотя не из глины ли бог Хнум слепил людей? Читать рукописи Дома жизни. И, конечно, мечтать о далеких странах.
Менхеперра, да будет он жив, здрав и невредим, очень хорошо помнил, как впервые узнал о земле Пунт. Был он совсем ребенком и только учился разбирать священные знаки. И когда жирно блестящие черные жучки, копошащиеся на гладком зеленоватом листе, вдруг сложились в слова сказки, много раз слышанной от кормилицы, он испытал невиданное прежде потрясение. Как будто распахнулись перед ним ворота в иную, светлую и прекрасную страну, где нет примеров на сложение и вредной сестры Нефрура, которая не чинится расцарапать лицо будущему царю. Зато в той стране были бескрайние зеленые волны, и смелые дружинники, и чудесные приключения – и никому, кроме него, не было туда ходу. До сих пор царь в горькую минуту предпочитал не услаждать себя музыкантшами, танцовщицами и акробатками, а брать упругий свиток папируса – и уходить на время за пределы Двух земель. Иногда ему хотелось даже развести чернил и самому начертать историю, возникающую у него в голове, но останавливал страх и мысль о небывалом кощунстве – как же это, дать имя и жизнь человеку, который не жил на земле?
Тутмос медленно двинулся прочь от причала, вверх по истертым ступеням. В город. В город, который должен падать перед ним ниц – и не падает. Не узнает и не признает своего царя. Менхеперра не верил в поход, отправленный мачехой. Он слишком хорошо помнил, какие испытания выпали на долю древних моряков, прежде чем они сумели прорваться в Землю бога. Корабли Нехси вернулись нетронутыми, совершив приятную прогулку по Великому зеленому морю. Да, корабли нагружены сокровищами – но они заплатили за них. Царь знал, чувствовал, что населенная краснокожими людьми страна Пунт, лежащая далеко на юге – это всего лишь еще одно племя данников, а великая, таинственная Земля бога, где живут золотые змеи, где реки текут молоком и медом, где растут невиданные деревья, откуда берет начало Великая река – эта страна еще ждет того, кто сумеет ее найти.
Царь тяжелыми, небыстрыми шагами шел к рынку, думая выпить вина или браги, послушать, что говорят люди. Он не боялся, что его узнают, и от этого было горько. А во дворце обойдутся без него. Да и не хотел он смотреть, как возносят хвалу мачехе, как чествуют Нехси, как напиваются писцы и моряки.
– Разве же в Земле бога побывали наши корабли? – послышалось от обочины дороги.
От неожиданности Тутмос споткнулся. Обернулся. Прямо на присыпанном песком камне сидел старик с арфой в руках. Не из тех, кто играет на царских пирах, получая за это золото, нет. Уличный музыкант, сказитель, слушатели которого могут дать ему разве что лепешку или полоску сушеного мяса. Но вокруг него собралась изрядная толпа, человек в пятнадцать – кто же откажется позлословить о царском дворе? Тутмос протолкался к арфисту, даже не морщась от людских прикосновений6 и не замечая смешанного запаха рыбы7, чеснока и дешевых притираний.
– Что ты говоришь, старик?
Арфист вздрогнул и поднял голову, уставившись на царя страшными проваленными глазами в жемчужных бельмах. Тутмос поежился – ему показалось, что явный слепец видит его и знает, кто он.
– Земля бога лежит в Дуате, – нараспев произнес он. Голос хрипел и дрожал, как у всех стариков, но арфиста явно учили с ним обращаться, и учили очень хорошо. – Земля бога лежит рядом с полями Иалу. Как же дойти туда на обычном корабле?
Тутмос хорошо помнил «Послание из сокрытого чертога», книгу, описывающую Дуат, царство, где Усир8 правит мертвыми. Но откуда его знать уличному музыканту? Не доводилось ли ему бывать в Доме жизни, пока глаза не перестали видеть? Но и в «Послании» не говорилось, как попасть в Дуат живому, куда плыть, чтобы привести корабль туда. А барка солнечного бога заходит в Дуат каждый вечер – значит, путь в него открыт.
– Сказки не лгут, – продолжал арфист, – сказки не лгут. В Землю бога можно дойти по морю – если она захочет принять тебя. Нужен ключ.
– Ключ? – Тутмос уже забыл, что вокруг стоят люди, которым нет никакого дела до его мечтаний, но они были.
– Какой еще ключ! Спой лучше песню, старик! – вмешался кто-то.
– Ключ – сокровище родом из Земли бога, которое стремится туда вернуться, – неторопливо пояснил арфист, – но если кто в Черной земле знает это, то только живой бог.
Что?!
А арфист провел пальцами по струнам и негромко стал выпевать слова древней сказки о человеке, побывавшем в прекрасной и таинственной Земле бога, сказки о моряке, потерпевшем кораблекрушение.
– …и знали они небо, и знали они землю, и были сердца их, как сердца львов.
Тутмос закрыл глаза, гася в себе невыносимую злобу. Он не увидел, как неуклюже повернулся старый арфист, и тень его, вычерченная солнцем на белом камне, стала странно напоминать хищную длинноклювую птицу.
Часть первая
Эта история началась в 188* году, когда я находился в отпуске после ранения. Война в Афганистане не дала мне ни карьеры, ни почестей – пусть пуля, попавшая чуть выше колена, и не оставила меня непоправимо хромым, но ходил я с определенным трудом, а спускаясь по лестнице или садясь в кресло, с трудом удерживался, чтобы не вскрикнуть от боли.
Вернувшись в Англию, измученный раной и морской болезнью, я узнал, что девушка, на взаимность которой я имел некоторые основания рассчитывать, даже и не думала ожидать, когда я вернусь из колоний. Она вышла замуж, и муж ее был значительно богаче меня, имел определенное положение в обществе и не припадал нелепо на одну ногу. Более в Англии меня не держало ничего, родители давно умерли, сестра была счастливо замужем и не интересовалась непутевым младшим братом, университетских друзей служба короне разбросала по всему миру, поэтому я принял решение уехать куда-нибудь врачевать свои телесные и душевные недуги.
Наверное, стоило предпочесть любой из английских курортов – Бат, Блэкпул или Скарборо, или же остановиться на Карслбаде, Ривьере или Бадене. Горячие источники успокоили бы боль в ноге, а общественные балы, выставки или пусть даже выступления какого-нибудь Чудо-ребенка или бродячего чревовещателя – отвлекли бы от горьких мыслей. Купальные лифты, девушки в пляжных панталончиках, киоски с мороженым и креветками, концерты классической музыки, карусели, распродажи фарфоровых безделушек… Натужное веселье обязательно на курортах так же, как и в Рождество, и вся эта шумная дешевая мишура, вызывающая головную боль, назначена помогать нам в этом. Но если человек мизантропичен от природы, да и еще и столкнулся с каким-либо настоящим несчастьем в тот момент и в тех обстоятельствах, когда общество предписывает ему веселиться, пользы и удовольствия это не принесет ни ему, ни обществу.
Примерно из этих соображений мой выбор пал на Иерусалим. Возможно, Палестина – не лучшая страна для того, кто только что вернулся из колоний и не успел еще заскучать по жаре, плохой, грязной воде и туземцам. Но, честно говоря, я надеялся найти в древнем священном городе успокоение и ответы на многие вопросы. (Да и нога в тамошнем сухом климате, наверное, ныла бы меньше, чем в промозглом Лондоне, где даже летом не бывает солнца).
Как любой представитель христианской цивилизации, я испытываю некоторый внутренний трепет перед новозаветной историей, пусть жизнь и делает невозможным следование евангельской морали, а английская церковь не требует от своих прихожан особого благочестия. Но мысль о том, что где-то лежат камни, по которым ходил Спаситель, что прожившие восемнадцать веков оливы так и растут в Гефсиманском саду, что по Крестному пути может пройти любой, а чтобы посмотреть на Гроб Господень, войны за которой несравнимы по величине и жестокости с войнами за наши колонии, достаточно лишь заплатить умеренную сумму за билет – эта мысль поселяет в душе странное благоговение и беспримерную уверенность в реальности сказанного в Писании.
На средневековых картах Иерусалим изображался в центре мира. И с той самой секунды, когда я сошел на берег в порту Яффо, древнего города крестоносцев, меня не покидало странное ощущение, что эти карты не лгали. Пусть Яффо предстал передо мной нагромождением желто-серых камней, присыпанных пылью, пусть солнечный свет, отражаясь от этих камней, резал глаза, и вездесущая сухая пыль лезла в нос и рот, не давая дышать, пусть на улицах, куда ни посмотри, лежали гниющие отбросы, как в самых мерзких закоулках Уайтчепела, пусть нестерпимо пахло нечистотами, тухлой рыбой и разлагающимися водорослями, да еще и прибавлялся к этому своеобразный запах арабов – масла, которое они используют для волос, жареной на углях требухи, и каких-то удушающих благовоний. А при виде многочисленных турков очень не хотелось вынимать руку из кармана, где лежал револьвер. И это уже не говоря о том, что царящий в порту шум – крики рыбаков, грузчиков, верблюжий рев, да еще плывущий над всем этим заунывный призыв муэдзина – человека с чуть более чувствительными ушами уложил бы в обморок.
Морское путешествие немного успокоило расстроенные нервы, иначе порт Яффо, наверное, показался бы мне адом. Но даже в этом аду непонятным образом чувствовалась близость сердца мира. Может быть, дело было во множестве паломников, а может быть, действительно витала над Святой землей какая-то благодать.
Где-то я слышал разговоры, что в Палестине планируют постройку железной дороги, но пока ее не было и в помине, и пришлось удовлетвориться местом в дилижансе. Назвать это сорокапятимильное путешествие приятным не отважился бы никто, но наконец закончилось и оно, и я оказался у врат старого города Иерусалима, прямо под вывеской агентства Кука.
Следующие несколько недель я провел весьма приятно. Жил я, понятно, в христианском квартале, бродил по сухим горячим улицам, прошел Крестным путем, целый день просидел в Храме Гроба, поняв наконец, что послужило причиной жесточайших войн древности – смысл, высший и недоступный, был в этом камне и был понятен каждому, кому довелось его видеть. Пожалуй, более я не видал на земле ничего, сравнимого по значительности со скромной плитой пожелтевшего мрамора, треснувшей посередине. Я гулял в Гефсиманском саду, и вообще изучил, кажется, решительно все новозаветные места. Особенно поразила меня недавно сооруженная часовня Pater noster, на стенах которой была начертана соответствующая молитва едва ли на всех европейских языках. Видел великую реку Иордан – честное слово, в Англии такому ручейку постыдились бы давать имя – пил густой и сладкий турецкий кофе, взглянул на чтимую евреями стену и вообще вел себя как образцовый турист.
И потихоньку начинал скучать.
Иерусалим совсем невелик, хоть и грандиозен. Обычных курортных развлечений ждать тут было нельзя, девушек своих турки затягивают в черное, оставляя открытыми только глаза, за морскими купаниями пришлось бы куда-то еще ехать (впрочем, есть ли здесь вообще морские купания?), общества в гостинице не было никакого, и я начинал уж подумывать о том, чтобы предпринять еще одно небольшое путешествие и перебраться в Дамаск.
Ранним утром я прогуливался по арабскому кварталу – ближе к полудню становилось невыносимо жарко и приходилось возвращаться в гостиницу под защиту толстых стен с крошечными окнами.
Арабский квартал отличается тем, что на каждой, пусть и почти незаметной улочке, стоят бесконечные лавки – со съестным, готовой одеждой, специями, духами, оружием, разнообразными безделушками, иногда даже книгами. От запахов воздух казался густым – першило в горле от сотен видов перца и других специй, отдавали прогорклым маслом духи, сладко гнили помятые фрукты, и еще пахло свежим мягким хлебом, и этот запах почему-то напоминал о дальней дороге. Торговцы не стеснялись дергать меня за одежду и за руки и беззастенчиво кричали прямо в ухо. Да уж, даже старьевщики с Петтикоут-лейн такого себе не позволяют. Уже почти твердо решив уехать из Палестины, я подыскивал себе какую-нибудь вещицу на память об этой поездке.
Большая часть этих вещиц была сделана ужасающе грубо и небрежно. Определенной дикарской прелестью обладали разве что женские украшения из необработанных камней, но мне, увы, некому было их дарить. В конце концов меня занесло в довольно большую лавку – по крайней мере, в нее можно было зайти, а не просто покопаться в разложенном прямо на мостовой товаре – заполненную старинными вещами чуть более тонкой работы. Да и хозяин не имел премерзкой обезьяньей манеры восточных торговцев. Он только степенно кивнул мне и даже предложил кофе.
От кофе я отказался, принявшись рассматривать выставленные objet d’art, и скоро проникся смутным уважением к хозяину. Жизнь в окружении таких вещей не могла не наложить на него отпечатка – или же наоборот, он изначально создавал эту лавку в соответствии с врожденным своим тонким вкусом. Такой восток нравился мне много больше, он вызывал в памяти сказки тысячи и одной ночи, а отнюдь не службу в колониях, приятных воспоминаний оставившую мало.
Даже пахло здесь не так, как во всем остальном квартале. Этот запах показался мне вдруг запахом самого старого Иерусалима – то ли нагретой пыли и камня, то ли ладана или какого-то еще церковного благовония, то ли самой древности. Наверное, так пахнет в гробницах египетских фараонов, разве что там жарче и воздух затхл.
Вещи здесь были не навалены беспорядочными горами на зеленоватых от старости медных подносах, а лежали каждая по отдельности на обтянутых вытертым бархатом ступенчатых постаментах. Во всей лавке не было ничего яркого, кричащего – ни цветастых тканей, ни расписных тарелок, ни изразцов, ни стеклянных бус – только приглушенные тона старого, поросшего патиной металла, потускневшие полудрагоценные камни да твердое от старости дерево. Где-то в углу притаился даже ворох рукописей, на пергаменте и кажется даже папирусе, но древних языков я не превзошел, за исключением университетских начатков греческого и латыни. Обнаружив даже россыпь странной формы глиняных предметов с выдавленными на них загадочными письменами, я подумал, что здесь стоило оказаться не мне, а сэру Генри Роулинсону. Возможно, выставленные здесь вещи могли бы изрядно обогатить британскую науку и коллекции Британского музея, но я до сих пор ничего не понимаю в древней истории, что уж говорить о тех временах, о которых я веду рассказ. То ли дело оружие.
Внимание мое привлек короткий кривой кинжал в отделанных серебром ножнах. Рукоять с тусклым красным камнем в навершии удобно легла в руку, а булатная сталь лезвия, хоть и требовала чистки и затачивания, была в отличном состоянии. Не то чтобы кинжал был для джентльмена вещью повседневной необходимости, но этот был красив. Привешивать его на ковер в гостиной я, разумеется, не собирался (тем более что и квартиры вместе с гостиной пока не имел), но среди моих приятелей явно нашлось бы немало ценителей подобной вещи.
Жизнь на востоке научила меня сбивать любую цену, назначенную торговцем, и начинать разговор с уменьшения ее в четыре-пять раз. Вот и сейчас первоначальные десять лир (что-то около девяти фунтов) удалось обратить в три, и, весьма довольный сделкой, на этот раз я принял предложение выпить кофе. Тем более что кофе по всей Оттоманской империи варят отличный, хоть и ничуть не похожий на тот, что можно выпить в Англии. Здесь он подается в совсем маленьких чашечках, очень сладкий и очень крепкий, и добавляют в него какую-то пряность с резким свежим вкусом.
Приняв из рук мальчика крошечную фарфоровую чашечку, я осторожно сел. Хозяин лавки кое-как понимал по-английски, и, вероятно, меня ждали несколько минут небезынтересной беседы. Однако вместо этого он молча разглядывал меня. Глаза его были лишены ресниц, и из-за этого взгляд становился похожим на змеиный, и мне сделалось неуютно.
Отведя взгляд, я наткнулся вдруг на еще одну полочку, ранее не замеченную. Стоявшие и лежавшие там вещи заинтересовали бы равно археолога и самого тонкого ценителя искусства. По всей вероятности, все они происходили из тех самых гробниц египетских фараонов, которые я уже вспоминал ранее. Египтомания меня миновала, правда, но представление о древностях из долины Нила я имел не меньшее, чем любой другой образованный человек.
На полочке лежали тяжелые жуки-скарабеи, вырезанные из цельных камней и отмеченные строчками иероглифов – должно быть, заклинаниями. Красовался рядом с ними широкий браслет с эмалью, не утратившей цвета за три тысячи лет. Стояла пара бронзовых статуэток звероголовых богов – миниатюрных, невероятно тонкой работы. Рядом, завернутая в пожелтевшие пелены, лежала мумия какого-то зверька вроде кошки. Интересно, кому может понадобиться такое? Было тут и множество других вещей – бусины, каменные печати, маленький гранитный портрет человека в царской короне, глиняные черепки, чернеющие рукописными строчками, и масса других мелочей, которые сделали бы честь любому музею. Памятуя о том, сколько шедевров древности было куплено именно в таких лавчонках (или, по крайней мере, о неоднократно слышанных мной в университете рассказах о таких покупках), я решил присмотреться повнимательнее.
Полагаю, что ценнее всего были плоские белые черепки с буквами и особенно свернутый папирус, который я даже побоялся трогать – слишком уж хрупким он выглядел, но эту мысль я отбросил сразу – в таких вещах разбираться бы ученому, но никак не человеку, с некоторым трудом одолевшему университетский курс в силу излишнего увлечения греблей и девушками.
Поэтому я сосредоточился на вещах, которые мог оценить. Невзрачный ржавый перстенек я, по недолгому размышлению, отбросил, задумавшись вместо этого над крупной плоской подвеской из бирюзы и разноцветной эмали, но и она показалась мне малоценной. Ювелирных украшений здесь вообще было много, очевидно, египтяне их любили, но мне показалось, что никакой ценности, кроме красноватого золота, в них нет – слишком они все были простые, грубые и яркие.
Возможно, следовало приобрести мумию и презентовать ее кому-то из наших археологов, но мысль о путешествии в компании мертвого зверя меня не обрадовала. Конечно, вряд ли он примется разлагаться, если еще не сделал этого за десяток веков, но дохлая кошка в саквояже в любом случае будет сомнительным удовольствием. В душу мне запал скарабей из мутного красного камня, размером примерно с ладонь, и его я сразу отложил в сторону. Но хотелось выбрать и что-нибудь значительное, что могло бы вызвать интерес лондонских ученых или антикваров. И наконец я нашел то, что искал.
Это оказалась небольшая, дюймов пяти, статуэтка египетского ибиса. Бронза позеленела от возраста, но годы не сломали ни длинного острого клюва, ни топорщащихся перьев на голове. Перья эти, и все прочие мелкие детали тоже, были отделаны очень тщательно, так что видны были даже крошечные бороздки на крыльях и когти на ногах, на месте глаз чернели маленькие блестящие камушки или капли стекла. Он стоял в неестественной для птицы позе, выставив вперед левую ногу и высоко подняв голову, и я предположил, что это изображение какого-то бога. Бронзовые когти вцеплялись в подставку из полосатого зеленого камня вроде яшмы. Когда-то она, очевидно, была отполирована до зеркальной гладкости, но сейчас была уже просто довольно ровной. В руках он оказался странно легким, как будто полым изнутри. Вряд ли он был хоть сколько-то ценен в каком-то смысле, кроме художественного, но хорош был необычайно, и я с удовольствием присоединил его к своим покупкам.


