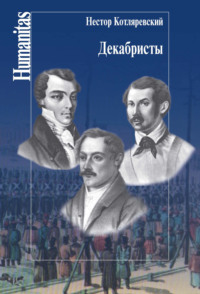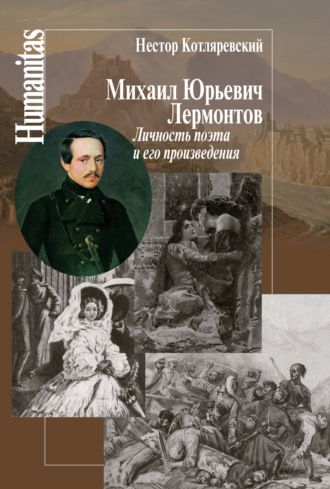
Полная версия
Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения
(Которые не понимают того человека),
… кто в грудь втеснить желал бы всю природу,Кто силится купить страданием своимИ гордою победой над земнымБожественной души безбрежную свободу.[1831]Торжествовать гордую победу над земным – таково было нескромное желание поэта; и оно не было минутным капризом его настроения. Лермонтов был убежден, что он призван свершить нечто великое.
VI
Мы напрасно стали бы искать какой-нибудь определенной программы в этих неясных порывах молодой фантазии «к великому». Голова мальчика, разгоряченная ранним чтением книг, по преимуществу романтического содержания, бредила рыцарскими подвигами, мечтала о Шотландии[7], о Кавказе и его героях, о Древней Руси с ее богатырями, о Риме, о морских разбойниках, – одним словом, обо всем, на чем только лежала печать внутреннего или внешнего величия. Понятно, что поэт и наслаждался этим миром, и жил в нем как его воображаемый участник, как его герой.
Но сама жизнь охлаждала на каждом шагу эту чрезмерно пылкую фантазию, и ранняя меланхолия находила себе новую пищу в дисгармонии мечты и действительности. Несмотря на все разочарования, мечта Лермонтова никогда не желала признать себя побежденной. Она успела пустить глубокие корни в сердце поэта. Постоянное желание быть участником великих дел, хотя бы и неясных, повлекло за собою уверенность в том, что этот сон должен осуществиться. Мысль об осуществлении его совпала у Лермонтова с мыслью о собственном призвании. Поэт не скрывал своих гордых дум. Он открыто признавался, что ищет славы, что хочет во всем дойти до совершенства, что он страдает оттого, что в настоящем все не так, как бы ему хотелось… он чувствовал в себе темперамент бойца и в своих стихотворениях часто говорил о бойце-воине и бойце-поэте. Он сам себе пророчил эту славную будущность и был очень нескромен, когда говорил о своем призвании:
…для небесного могилы нет.Когда я буду прах, мои мечты,Хоть не поймет их, удивленный светБлагословит……неведомый пророкМне обещал бессмертье……отчего не понял светВеликого, и как он не нашелСебе друзей, и как любви приветК нему надежду снова не привел?Он был ее достоин…[1831]Лермонтов нам не сказал, что именно желал он совершить достойного бессмертия и величия. Каждый раз, когда он касался этого вопроса, он обходил его в общих выражениях; он только боялся, что не успеет совершить «чего-то». Это «что-то» остается неуловимым призраком, который преследует и Лермонтова, и всех его героев. Всегда им кажется, что они делают не то, что следует.
В годы, о которых мы говорим, Лермонтов отдавался этим мечтам о своем великом призвании с легковерием ребенка, хотя каждый прилив таких героических чувств был неразрывно связан с таким же наплывом сомненья. Мечтая о высоком и великом призвании, поэт ежеминутно отдавал себе отчет в том, что все эти мечты, быть может, не более как мечты – плод его разгоряченной фантазии, что то «великое», к которому он стремится, останется для него недостижимым, что он, сделав попытки к его достижению, лишь навлечет на себя недовольство окружающих, их проклятие, будет заклеймен ими и отвергнут, непонят и даже «казнен»[8]. Фантазия Лермонтова вообще не была скупа на темные краски, и потому раз только ему запала в голову мысль, что он будет гоним людьми за высокие идеалы, за стремление к великим, хотя и туманным подвигам, он не замедлил развить эту мысль до ее последних крайностей.
Он вырисовывал целую картину нравственных и физических мучений, действующим лицом которой являлся он сам. Понятно, что эта картина была им придумана, а не выстрадана, – почему юношеские стихи Лермонтова, в которых попадаются эти страшные кошмары, и носят на себе следы деланности и вычурности. Мы приведем для примера наиболее характерные выдержки, где основная мысль о жалкой и страшной участи, которая ожидает поэта, выражена наиболее ярко:
Я предузнал мой жребий, мой конец,И грусти ранняя на мне печать;И как я мучусь, знает лишь Творец;Но равнодушный мир не должен знать.И не забыт умру я. Смерть мояУжасна будет; чуждые краяЕй удивятся, а в родной странеВсе проклянут и память обо мне.[1831]Настанет день – и миром осужденный,Чужой в родном краю,На месте казни – гордый, хоть презренный —Я кончу жизнь мою…[1830]Когда к тебе молвы рассказМое названье принесетИ моего рожденья часПеред полмиром проклянет,Когда мне пищей станет кровьИ буду жить среди людей,Ничью не радуя любовьИ злобы не боясь ничьей…[1830]Читая такие и подобные им тирады, хочется сказать Лермонтову словами одного из его героев: «Ты строишь химеры в своем воображении и даешь им черный цвет для большего романтизма!» Эти мрачные картины были, несомненно, химеры, как и те светлые мысли о великом призвании, которые их вызывали. Но в них была и истина.
Что такое, в сущности, эти мечты, как не поэтическое приподнятое выражение вполне понятного желания поэта жить действуя и влияя на жизнь, – желания, чтобы жизнь считалась с ним, как с живой силой? Что Лермонтов, при всем своем пессимизме, искал такого сближения с жизнью и людьми, и что он, насколько ему позволяли его годы и условия жизни, зорко следил за тем, что на земле, вблизи его и вдали его, творилось – на это есть прямые указания в его юношеских стихотворениях.
VII
В одном из самых мрачных стихотворений («Ночь»), обращаясь к смерти, Лермонтов говорил:
Ах! – и меня возьми, земного червя —И землю раздроби, гнездо разврата,Безумства и печали!..Всё, всё берет она у нас обманомИ не дарит нам ничего – кроме рожденья!..Проклятье этому подарку!..[1830]Но поэт говорил слова, которым сам не верил. В этом проклятии земле звучала, в сущности, большая любовь к ней. Прежде чем просить смерть раздробить землю, он признавался сам себе:
…одноСомненье волновало грудь мою,Последнее сомненье! Я не могПонять, как можно чувствовать блаженствоИль горькие страдания далекоОт той земли, где первый раз я понял,Что я живу, что жизнь моя безбрежна,Где жадно я искал самопознанья,Где столько я любил и потерял…Искренность этих последних слов подтверждается и другими стихотворениями. Припомним одно, очень характерное («Земля и небо»):
Как землю нам больше небес не любить?Нам небесное счастье темно;.Хоть счастье земное и меньше в сто раз,Но мы знаем, какое оно.О надеждах и муках былых вспоминатьВ нас тайная склонность кипит;Нас тревожит неверность надежды земной,А краткость печали смешит.Страшна в настоящем бывает душеГрядущего темная даль;Мы блаженство желали б вкусить в небесах,Но с миром расстаться нам жаль.Что во власти у нас, то приятнее нам,Хоть мы ищем другого порой,Но в час расставанья мы видим ясней,Как оно породнилось с душой.[1831]Та же мысль выражена и в словах:Стремится медленно толпа людей,До гроба самого от самой колыбели,Игралищем и рока, и страстейК одной, святой, неизъяснимой цели.И я к высокому, в порыве дум живых,И я душой летел во дни былые;Но мне милей страдания земные:Я к ним привык и не оставлю их…[1829]Но одной любви мало для того, кто жаждет великого подвига. Надо же знать, с каким сочетать ее действием.
Нельзя требовать от юного мечтателя, чтобы он на этот вопрос ответил сразу и вполне определенно. Достаточно будет, если он себя начнет подготовлять к решению, выясняя себе, с чем именно должно бороться. А как бороться с тем, что считаешь злом, какой избрать путь для подвига – это должна указать сама жизнь, если только она протечет в условиях благоприятных для этих поисков и не оборвется слишком рано.
VIII
И Лермонтов с ранних лет торопился развить в себе строгое критическое отношение к жизни. Его юношеский взгляд на жизнь был значительно шире, чем можно было предполагать, судя по впечатлениям, какие ему могла дать замкнутая обстановка, в которой он вырос. Оказывается, что Лермонтов рано успел задуматься не только над общими этическими вопросами, но вдумывался и в вопросы общественно-политические, от которых, казалось, жизнь держала его в таком отдалении.
Он бывал иногда увлечен «свободой» и «вольностью». Целую поэму посвятил он прославлению «последнего сына вольности» – легендарного Вадима, столь популярного у наших либералов 20-х годов. Он перелагал в стихи народные разбойничьи песни («Атаман», 1831) и красота таких переложений указывает на то, что сердце его лежало к таким мотивам. Вспомним, например, стихотворение «Воля» (1831):
Моя мать – злая кручина,Отцом же была мне – судьбина,Мои братья, хоть люди,Не хотят к моей грудиПрижаться:Им стыдно со мною,С бедным сиротою,Обняться.Но мне Богом данаМолодая жена,Воля-волюшка,Вольность милая,Несравненная.С ней нашлись другие у меня —Мать, отец и семья;А моя мать – степь широкая,А мой отец – небо далекое.Они меня воспитали,Кормили, поили, ласкали;Мои братья в лесах —Березы да сосны.Несусь ли я на коне, —Степь отвечает мне;Брожу ли поздней порой, —Небо светит мне луной;Мои братья в летний день,Призывая под тень,Машут издали руками,Кивают мне головами;И вольность мне гнездо свила,Как мир – необъятное!Но такое вольнолюбие сомнительного свойства находило свою поправку в более сознательном отношении к свободе.
В юношеских тетрадях Лермонтова встречается немало заметок и стихов, в которых он прямо касается политических событий своего времени. Суждения его о них самые свободомыслящие, для тех годов даже очень смелые. Есть резкая, правда, запоздалая, выходка против «тирана» Аракчеева («Новгород», 1830), весьма непочтительная сатира по адресу королей («Пир Асмодея», 1830) и малопонятное предсказание для России какого-то черного года, чуть ли не возвращения пугачевщины («Предсказание», 1830)[9].
Пусть все это незрело и непродуманно, но очевидно, что мысль Лермонтова начинала работать в этом направлении очень рано, и некоторые его позднейшие стихотворения, заподозренные в либерализме, были, как видим, не капризом, а плодом раздумья.
Есть в юношеских тетрадях поэта также два стихотворения, посвященные июльской революции, – оба восторженные и полные радикального духа, хотя слабые по выполнению.
Есть одно стихотворение, очень умное и красивое – привет какому-то певцу, который был изгнан из страны родной, но, очевидно, не за любовь к музам:
О, полно извинять разврат!Ужель злодеям щит порфира?Пусть их глупцы боготворят,Пусть им звучит другая лира;Но ты остановись, певец,Златой венец не твой венец.Изгнаньем из страны роднойХвались повсюду как свободой;Высокой мыслью и душойТы рано одарен природой;Ты видел зло и перед зломТы гордым не поник челом.Ты пел о вольности, когдаТиран гремел, грозили казни;Боясь лишь вечного СудаИ чуждый на земле боязни,Ты пел, и в этом есть краюОдин, кто понял песнь твою.[1830]Наконец, есть «Монолог» – печальное размышление над нашей русской жизнью – первый набросок знаменитой «Думы»: «Печально я гляжу на наше поколенье». Этот «монолог» обнаруживает в авторе большую силу ума и наблюдательности: Поверь, – пишет он, —
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.К чему глубокие познанья, жажда славы,Талант и пылкая любовь свободы,Когда мы их употребить не можем?Мы, дети севера, как здешние растенья,Цветем недолго, быстро увядаем…Как солнце зимнее на сером небосклоне,Так пасмурна жизнь наша. Так недолгоЕе однообразное теченье…И душно кажется на родине,И сердцу тяжко, и душа тоскует…Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,Средь бурь пустых томится юность наша,И быстро злобы яд ее мрачит,И нам горька остылой жизни чаша;И уж ничто души не веселит.[1829]Эти первые гражданские мотивы лермонтовской поэзии указывают, что наш юный пессимист вовсе не был так далек от людей и жизни, как ему хотелось себя самого в этом уверить.
Да и был ли он пессимистом? В его юношеских тетрадях попадаются, правда, изредка, совсем жизнерадостные мысли.
IX
Иногда эта жизнерадостность является с примесью иронии:
Я верю, обещаю верить,Хоть сам того не испытал,Что мог монах не лицемеритьИ жить, как клятвой обещал;Что поцелуи и улыбкиЛюдей коварны не всегда,Что ближних малые ошибкиОни прощают иногда,Что время лечит от страданья,Что мир для счастья сотворен,Что добродетель не названье,И жизнь поболее, чем сон!..Но вере теплой опыт хладныйПротиворечит каждый миг,И ум, как прежде безотрадныйЖеланной цели не достиг;И сердце, полно сожалений,Хранит в себе глубокий следУмерших – но святых видений,И тени чувств, каких уж нет;Его ничто не испугает,И то, что было б яд другим,Его живит, его питаетОгнем язвительным своим.[1831]Иногда с примесью горечи и печали:
Мы сгибнем, наш сотрется след,Таков наш рок, таков закон;Наш дух вселенной вихрь умчитК безбрежным, мрачным сторонам.Наш прах лишь землю умягчитДругим, чистейшим существам.Не будут проклинать они;Меж них ни злата, ни честейНе будет. – Станут течь их дни,Невинные, как дни детей;Меж них ни дружбу, ни любовьПриличья цепи не сожмут,И братьев праведную кровьОни со смехом не прольют!..К ним станут (как всегда могли)Слетаться ангелы. – А мыУвидим этот рай земли,Окованы над бездной тьмы.Укоры зависти, тоскаИ вечность с целию одной:Вот казнь за целые векаЗлодейств, кипевших под луной.[1830]Иногда в самой чистой своей форме, незапятнанной никаким сомнением («Мой дом»):
Мой дом везде, где есть небесный свод,Где только слышны звуки песен,Всё, в чем есть искра жизни, в нем живет,И для поэта он не тесен.До самых звезд он кровлей досягает,И от одной стены к другойДалекий путь, который измеряетЖилец не взором, но душой.Есть чувство правды в сердце человека,Святое вечности зерно:Пространство без границ, теченье векаОбъемлет в краткий миг оно.И Всемогущим мой прекрасный домДля чувства этого построен,И осужден страдать я долго в нем,И в нем лишь буду я спокоен.[1830]Когда б в покорности незнаньяНас жить Создатель осудил,Неисполнимые желаньяОн в нашу душу б не вложил,Он не позволил бы стремитьсяК тому, что не должно свершиться,Он не позволил бы искатьВ себе и в мире совершенства,Когда б нам полного блаженстваНе должно вечно было знать.Но чувство есть у нас святое,Надежда, бог грядущих дней —Она в душе, где всё земное,Живет наперекор страстей;Она залог, что есть понынеНа небе иль в другой пустынеТакое место, где любовьПредстанет нам, как ангел нежный,И где тоски ее мятежнойДуша узнать не может вновь.[1831]Все эти порывы радостных и радужных чувств – возражение самому себе на слишком поспешные печальные выводы из житейских впечатлений. Но счесть их за конечную поправку этих печальных выводов нельзя: поэт может отречься от таких мирных и светлых мыслей каждую минуту.
X
Так сбивчивы, противоречивы, недосказаны и невыношенны все суждения юного Лермонтова о жизни и людях. Перед ним ряд загадок, который поэт стремится решить во что бы то ни стало. Решение, какое он дает им, иногда повышает в нем симпатичные и радостные чувства, иногда, наоборот, вызывает самые печальные и злобные. Эта смена настроений повергает его в большую тревогу и боязнь, что он никогда не решит трудной задачи, никогда ясного пути перед собой не увидит.
Любил с начала жизни яУгрюмое уединенье,Где укрывался весь в себя,Бояся, грусть не утая,Будить людское сожаленье;Счастливцы, мнил я, не поймутТого, что сам не разберу я,И черных дум не унесутНи радость дружеских минут,Ни страстный пламень поцелуя.Мои неясные мечтыЯ выразить хотел стихами,Чтобы, прочтя сии листы,Меня бы примирила тыС людьми и с буйными страстями;Но взор спокойный, чистый твойВ меня вперился изумленный,Ты покачала головой,Сказав, что болен разум мой,Желаньем вздорным ослепленный.Я, веруя твоим словам,Глубоко в сердце погрузился,Однако же нашел я там,Что ум мой не по пустякамК чему-то тайному стремился,К тому, чего даны в залогС толпою звезд ночные своды,К тому, что обещал нам БогИ что б уразуметь я могЧерез мышления и годы.Но пылкий, но суровый нравМеня грызет от колыбели…И в жизни зло лишь испытав,Умру я, сердцем не познавПечальных дум, печальной цели.[1830]Среди юношеских стихотворений Лермонтова сохранилась одна весьма откровенная исповедь, в которой поэт как будто бы хотел сомкнуть в одно целое все волновавшие его в те годы чувства и мысли. Исповедь эта озаглавлена «1831-го, июня 11 дня», и с некоторыми строками из нее мы уже знакомы.
Вспомним ее частями, чтобы закруглить словами самого поэта все уже сказанное о его юношеских мечтах, думах и настроениях. Лермонтов писал:
Моя душа, я помню, с детских летЧудесного искала. Я любилВсе обольщенья света, но не свет,В котором я минутами лишь жил;И те мгновенья были мук полны,И населял таинственные сныЯ этими мгновеньями. Но сон,Как мир, не мог быть ими омрачен.Как часто силой мысли в краткий часЯ жил века и жизнию иной,И о земле позабывал. Не раз,Встревоженный печальною мечтой,Я плакал; но все образы мои,Предметы мнимой злобы иль любви,Не походили на существ земных.О нет! всё было ад иль небо в них.Холодной буквой трудно объяснитьБоренье дум. Нет звуков у людейДовольно сильных, чтоб изобразитьЖелание блаженства. Пыл страстейВозвышенных я чувствую, но словНе нахожу и в этот миг готовПожертвовать собой, чтоб как-нибудь,Хоть тень их перелить в другую грудь.Известность, слава, что они? – а естьУ них и надо мною власть: ониВелят себе на жертву всё принесть,И я влачу мучительные дниБез цели, оклеветан, одинок;Но верю им! – неведомый пророкМне обещал бессмертье, и живойЯ смерти отдал всё, что дар земной.………………………………………………..Никто не дорожит мной на земле,И сам себе я в тягость, как другим;Тоска блуждает на моем челе,Я холоден и горд; и даже злымТолпе кажуся; но ужель онаПроникнуть дерзко в сердце мне должна?Зачем ей знать, что в нем заключено?Огонь иль сумрак там – ей все равно.………………………………………………..Грядущее тревожит грудь мою.Как жизнь я кончу, где душа мояБлуждать осуждена, в каком краюЛюбезные предметы встречу я?Но кто меня любил, кто голос мойУслышит, и узнает? И с тоскойЯ вижу, что любить, как я, порок,И вижу, я слабей любить не мог.………………………………………………..Под ношей бытия не устаетИ не хладеет гордая душа;Судьба ее так скоро не убьет,А лишь взбунтует; мщением дышаПротив непобедимой, много злаОна свершить готова, хоть моглаСоставить счастье тысячи людей:С такой душой ты Бог или злодей…………………………………………………..Так жизнь скучна, когда боренья нет.В минувшее проникнув, различитьВ ней мало дел мы можем, в цвете летОна души не будет веселить.Мне нужно действовать, я каждый деньБессмертным сделать бы желал, как теньВеликого героя, и понятьЯ не могу, что значит отдыхать.Всегда кипит и зреет что-нибудьВ моем уме. Желанье и тоскаТревожат беспрестанно эту грудь.Но что же? Мне жизнь всё как-то короткаИ всё боюсь, что не успею яСвершить чего-то! – жажда бытияВо мне сильней страданий роковых,Хотя я презираю жизнь других.Есть время – леденеет быстрый ум;Есть сумерки души, когда предметЖеланий мрачен: усыпленье дум;Меж радостью и горем полусвет;Душа сама собою стеснена,Жизнь ненавистна, но и смерть страшна.Находишь корень мук в себе самом,И небо обвинить нельзя ни в чем.Я к состоянью этому привык………………………………………………..Я предузнал мой жребий, мой конец,И грусти ранняя на мне печать;И как я мучусь, знает лишь Творец;Но равнодушный мир не должен знать,И не забыт умру я. Смерть мояУжасна будет; чуждые краяЕй удивятся, а в родной странеВсе проклянут и память обо мне.………………………………………………..Кровавая меня могила ждет,Могила без молитв и без креста,На диком берегу ревущих водИ под туманным небом; пустотаКругом. Лишь чужестранец молодой,Невольным сожаленьем и молвойИ любопытством приведен сюда,Сидеть на камне станет иногда.И скажет: отчего не понял светВеликого, и как он не нашелСебе друзей, и как любви приветК нему надежду снова не привел?Он был ее достоин. И печальЕго встревожит, он посмотрит вдаль,Увидит облака с лазурью волн,И белый парус, и бегучий челн.И мой курган! – любимые мечтыМои подобны этим. Сладость естьВо всем, что не сбылось, – есть красотыВ таких картинах; только перенестьИх на бумагу трудно: мысль сильна,Когда размером слов не стеснена,Когда свободна, как игра детей,Как арфы звук в молчании ночей!Исповедь очень туманная, как видим; ряд ощущений мимолетных, ряд набежавших мыслей и картина близкой смерти, которая должна разрешить всю эту путаницу. Ясного сознания прожитого момента нет, нет и никаких видов на будущее. Сумерки души – как говорит поэт. И действительно, такие сумерки лежали тогда над душой Лермонтова[10].
Да и могло ли быть иначе, когда самые трудные этические вопросы жизни обступали молодой ум и он в решении их должен был полагаться на впечатления минуты? И минутами поэт и любил людей, и ненавидел их, и искал их встречи, и сторонился от них. Минутами верил, что ради них призван действовать, затем не верил в свое призвание; минутами проклинал мир, а затем пророчил ему счастливую будущность.
Во всех этих колебаниях и противоречиях было только одно постоянное – ощущение боли от растерянности перед нравственными требованиями, которые ставишь себе самому и окружающим людям.
О! если так меня терзалоСей жизни мрачное начало,Какой же должен быть конец?[1830]Учителя и книги
I
Высказывалось иногда мнение, что взгляды и чувства, выраженные в юношеских стихах Лермонтова, – чувства напускные и мысли заимствованные. У кого они могли быть заимствованы?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Когда его отец скончался, Лермонтов посвятил ему стихотворение, в котором правды, вероятно, было столько же, сколько и преувеличения:
Ужасная судьба отца и сынаЖить розно и в разлуке умереть,И жребий чуждого изгнанника иметьНа родине с названьем гражданина!Но ты свершил свой подвиг, мой отец.Постигнут ты желанною кончиной;Дай Бог, чтобы как твой, спокоен был конецТого, кто был всех мук твоих причиной!Но ты простишь мне! я ль виновен в том,Что люди угасить в душе моей хотелиОгонь божественный, от самой колыбелиГоревший в ней, оправданный творцом?Однако тщетны были их желанья:Мы не нашли вражды один в другом,Хоть оба стали жертвою страданья!Не мне судить, виновен ты иль нет…[1831]2
Поэт вообще любил приводить свою загадочную меланхолию в связь с грустными воспоминаниями об этом выстраданном семейном раздоре. Так, например, он писал:
Я сын страданья. Мой отецНе знал покоя по конец,В слезах угасла мать моя;От них остался только я,Ненужный член в пиру людском,Младая ветвь на пне сухом; —В ней соку нет, хоть зелена, —Дочь смерти – смерть ей суждена![1831]3
Лермонтов вспоминал о своем пребывании в университете с иронией:
Святое место!.. Помню я, как сон,Твои кафедры, залы, коридоры,Твоих сынов заносчивые споры,О Боге, о вселенной и о том,Как пить – с водой иль просто голый ром;Их гордый вид пред гордыми властями,Их сюртуки, висящие клочками.Бывало, только восемь бьет часов,По мостовой валит народ ученый.Кто ночь провел с лампадой средь трудов,Кто – в грязной луже, Вакхом упоенный,Но все равно задумчивы, без словТекут… Пришли, шумят… Профессор длинныйНапрасно входит, кланяяся чинно, —Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;Уходит, – втрое хуже…4
Если верить Лермонтову, то он впервые влюбился, имея 10 лет от роду. Вот что он занес в свою тетрадку:
«1830 г. 8 июля. Ночь.
Кто мне поверит, что я знал уж любовь, имея 10 лет от роду? – Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. – К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. – Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. – Я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. – Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны… И так рано! в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. – Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. – Я думаю, что в такой душе много музыки».