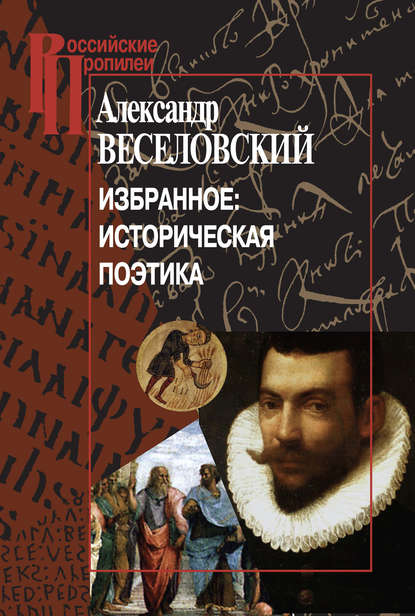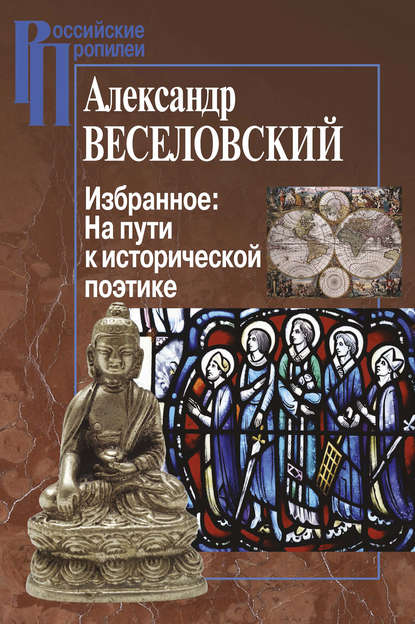Полная версия
Избранное. Мудрость Пушкина
Из всех писавших о «Памятнике» один Вл. Соловьев, как сейчас увидит читатель, правильно понял стих: «И долго буду тем любезен я народу» (то есть что здесь излагается суждение народа); но, правильно прочтя самый стих, он также исказил мысль Пушкина. Вся его статья «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»{49} имеет целью выразить и защитить софизм о тожестве красоты и нравственного добра. Этот софизм он внес и в объяснение «Памятника», приписав свою ложную мысль самому Пушкину. Основной софизм повлек за собою, ради своего торжества, несколько подсобных, и получился такой комментарий: «За несколько месяцев до смерти он еще раз восходит, – но не на пустынную вершину серафических вдохновений [!], а на то предгорье, откуда взор его видит большой народ [!], – потомство его поэзии, ее будущую публику. Этот большой народ, конечно [!], не та маленькая «чернь», светская и старосветская, что его окружает. Этот новый большой народ не вырывает гневных слов у поэта, эти народные колыбели [!] не противны его душе, как живые гробы. В этом большом народе есть добро, и он даст добрый отклик на то, что найдет добрым в поэзии Пушкина. Поэт не провидит, чтобы этот большой народ весь состоял из ценителей чистой поэзии: и эти люди будут требовать пользы от поэзии, но они будут искренно желать истинной пользы нравственной; – навстречу такому требованию поэт может пойти без унижения: ведь и чистая поэзия приносит истинную пользу, хотя не преднамеренно. Так что ж? Эти люди ценят поэзию не в ней самой, а в ее нравственных действиях. Отчего же не показать им этих действий в Пушкинской поэзии? «То добро, которое вы цените, – оно есть и в моем поэтическом запасе; за него вы будете вечно ценить мою поэзию; оно воздвигнет мне среди вас нерукотворный и несокрушимый памятник». Вот достойный и благородный «компромисс» поэта с будущим народом, составляющий сущность стихотворения «Памятник».
Здесь все – софизмы: и неизвестно откуда появляющийся «большой народ», в отличие от «черни», и приписываемое этому «большому народу» искание какой-то особенной истинной моральной пользы, тогда как в 4-й строфе «Памятника» говорится совершенно о том же, чего в «Черни» требует от поэта «чернь»; и софизмом, наконец, надо признать самый этот компромисс, который Пушкин будто бы заключает с потомством в своем «Памятнике». Приводя 4-ю строфу – о пробуждении добрых чувств, прославлении свободы и пр. – Соловьев пояснял: «Это дорого народу, но ведь это дорого и самому поэту, хотя и не дороже всего». Последней же строфою – «Веленью Божию» и пр. – Пушкин, по мнению Соловьева, «как бы полагает нерушимую печать безупречного благородства на свое соглашение с потомством»: здесь он «опять настаивает на верховности вдохновения и на безусловной самозаконности поэзии». Поистине, странная печать, уничтожающая смысл самого соглашения!
Tantae molis erat… Romanam condere gentem![13] – нет, всего только разумно прочитать 20 умных и ясных стихов Пушкина. «Замо́к», скрепляющий критическую легенду о нем, оказался не камнем, а пустотою. Пушкин предсказал:
И долго буду тем любезен я народу,Что чувства добрые я лирой пробуждал;прошло восемьдесят лет с его смерти, и люди все еще ищут нравоучения в его стихах: так точно оправдывается его предвидение.
Умиление{50}
1
В четвертой книжке «Галатеи» 1829 г. было напечатано следующее стихотворение Ротчева{51}.
Песнь вакханки
Лицо мое горит на солнечных лучах,И белая нога от терния страдает!Ищу тебя давно в соседственных лугах,Но только эхо гор призыв мой повторяет.О, милый юноша! Меня стыдишься ты…Зачем меня бежишь? Вглядись в мои черты!Прочти мой томный взгляд, прочти мои мученья!Приди скорей! Тебя ждет прелесть наслажденья.Брось игры детские, о, юноша живой;Узнай – во мне навек остался образ твой.Ах, на тебе печать беспечности счастливой,И взор твоих очей, как девы взор стыдливой;Твоя младая грудь не ведает огняЛюбви мучительной, который жжет меня.Приди из рук моих принять любви уроки!Я научу тебя восторги разделять,И будем вместе млеть и сладостно вздыхать!..Пускай уверюсь я, что поцелуй мой страстныйВ тебе произведет румянца блеск прекрасный!О, если б ты пришел вечернею поройИ задремал, склонясь на грудь мою главой!Тогда бы я тебе украдкой улыбалась,Тогда б я притаить дыхание старалась.В это время (январь 1829 г.) Лермонтов жил с бабушкой в Москве, учась в Университетском Благородном пансионе. Очевидно, книжка «Галатеи» попала в его руки, и стихотворение Ротчева соблазнило его: к 1830 году издатели относят стихотворение Лермонтова, написанное, как видно с первого взгляда, на сюжет ротчевской «Вакханки»:
Склонись ко мне, красавец молодой!Как ты стыдлив! И т. д.{52}Чем соблазнила его пьеса Ротчева? Он взял из нее только ее ядро: любовь вакханки к невинному и равнодушному юноше; все остальные элементы ротчевской пьесы он изменил: эллинскую вакханку превратил в продажную красу, беспечного и веселого отрока – в замкнутого юношу, и разлученных свел вместе; а главное – в то время как пьеса Ротчева вся выдержана в светлых, радостных тонах, так что и любовные «мученья» вакханки не нарушают этого светлого колорита, а только придают ему большую теплоту, – Лермонтов набросил на картину трагическое покрывало: мрачный трагизм – в судьбе женщины, слегка окрашен трагизмом и юноша, наконец, трагичен и самый характер ее любви. Воображаемой идиллии, которою кончается стихотворение Ротчева, соответствует трагический конец лермонтовской пьесы:
О, наслаждайся! Ты – мой господин!Хотя тебе случится, может быть,Меня в своих объятьях задушить —Блаженством смерть мне будет от тебя…Мой друг, чего не вынесешь любя!Итак, контраст греха и чистоты; мало того – страстное влечение грешного к чистому, то есть в грешном самосознание своей неполноты, и отсюда тревожность, жажда, искание, в чистом же – самодовлеющая полнота: вот что – по всей вероятности, интуитивно – подметил Лермонтов в пьесе Ротчева. И когда он попытался на свой лад изобразить этот контраст и это влечение, то наружу ярко выступил их трагический смысл.
То, о чем я говорю, было в Лермонтове не мыслью, не чувством: оно было скорее всего образом. В этом самом стихотворении он говорит о луне, блуждающей меж туч, что она – «как ангел средь отверженных». Это сравнение, по существу странное, конечно не случайно подвернулось под перо Лермонтова: оно какими-то тайными нитями связано с замыслом пьесы. Совершенно так же и весь этот эпизод – переработка ротчевской «Вакханки» – не случаен в творчестве Лермонтова.
Нет никакого сомнения, что этот свой жизненный образ Лермонтов нашел готовым, и именно у Пушкина. Эта находка была для юного Лермонтова откровением и освобождением; предоставленный собственным силам, он, вероятно, еще долго блуждал бы мыслью в сумерках собственного духа, тщетно отыскивая фокус своего самосознания. «Демон» Пушкина был впервые напечатан в 1824 г., «Ангел» – в 1828-м; в 1829 году вышло собрание стихотворений Пушкина, где пятнадцатилетний Лермонтов, вероятно, и прочитал впервые эти два стихотворения. В этом же 1829 году он пишет первый очерк своего «Демона». Стихотворение Пушкина «Демон» дало ему образ демона, стихотворение «Ангел» – идею встречи демона с образом чистоты и совершенства, наконец, фабулу своей поэмы он заимствовал, может быть, из письма Татьяны во 2-й главе «Онегина»:
Ты в сновиденьях мне являлся;Незримый, ты мне был уж мил,Твой чудный взгляд меня томил,В душе твой голос раздавался…Но Лермонтов по-своему пересоздал пушкинского демона, как и ротчевскую вакханку. Самобытность его творческой мысли в таком раннем возрасте удивительна.
2
В дверях эдема ангел нежныйГлавой поникшею сиял,А демон мрачный и мятежныйНад адской бездною летал.Дух отрицанья, дух сомненьяНа духа чистого взиралИ жар невольный умиленьяВпервые смутно познавал.«Прости, – он рек, – тебя я видел,И ты недаром мне сиял:Не всё я в небе ненавидел,Не всё я в мире презирал».Такова у Пушкина встреча двух мировых начал, греха и совершенства. Ангел стоит недвижно, он не жаждет и не ищет – даже взором; его потупленный взгляд – стыдливость безгрешной чистоты, или скорбь о падшем брате, которая боится выдать себя, чтобы не оскорбить. Напротив, демон жадно смотрит, и это – знак его мучительной неполноты; но он только смотрит: вот что характерно для Пушкина. Встреча обеих стихий ни для одной не проходит бесследно, – там рождается жалость, здесь умиление, – но активного воздействия не возникает между ними, то есть никакой внутренний порыв не нудит демона слиться с противоположным началом. Только мгновенное провидение совершенства, и отсюда рождающееся умиление, – но никакой попытки отдаться ему и овладеть им.
Из этого Пушкинского зерна родилась в Лермонтове концепция его «Демона». С проницательностью истинно-гениальной он не только понял Пушкинский образ и не только узнал себя в нем, но и сумел на основании собственного душевного опыта исправить его и дополнить; и так цельна была его необыкновенная натура, что в отроческом постижении она сознала себя всецело, так что опыт зрелых лет уже не прибавил ни одной существенной черты к тем, которыми обрисован образ демона в очерке 1829 года.
«Демон» Лермонтова – сложная переработка Пушкинского «Ангела», история той же встречи двух стихий, но рассказанная иначе. И прежде всего – самый образ демона! Лермонтов совершенно отодвинул в тень объективное изображение демона, как мировой силы: на первый план у него выступило (уже в первой редакции, 1829 года, – и так до конца) субъективное состояние демона, его душевная пытка; он «душой измученною болен», он «роняет, посреди мученья, свинцовы слезы», и т. д. Символический смысл Пушкинского образа был этим, разумеется, значительно ослаблен, но зато была дана возможность психологически раскрыть этот образ. А для Лермонтова только это одно и было важно: он в лице демона разрешал мучительную загадку своего собственного существования. Известно, что замысел этой поэмы имеет автобиографическую подкладку (любовь Лермонтова к В. А. Лопухиной); достаточно вспомнить собственные признания Лермонтова:
Как демон мой, я – зла избранник… Ты для меня была как счастье рая Для демона, изгнанника небес…и т. д.
или в посвящении к одной из поздних редакций «Демона»
…И не узнаешь здесь простого выраженьяТоски, мой бедный ум томившей столько лет…Если бы у нас и не было этих признаний поэта, все равно было бы очевидно, что в своем демоне он изображал самого себя – так часто он в своих стихах характеризует себя чертами, составляющими в совокупности образ его демона. В нем с ранних лет кипели тяжелые и недобрые чувства, мысли мрачные и холодные; он безмерно мучился пустынностью своей души, ущербностью всех своих впечатлений. Его исповеди ужасны:
Пусть я кого-нибудь люблю, —Любовь не красит жизнь мою:Она, как чумное пятноНа сердце, жжет – хотя темно.(1831 г.)И вот, Пушкинский рассказ о встрече двух начал оказался для Лермонтова, при переводе с символического языка на язык психологии, неполным и неверным: он по себе знал другое, и потому он должен был писать своего «Демона».
Умиление Пушкинского демона – о, да, да! Это чувство Лермонтов хорошо знал в себе, оттого он мог плакать облегчающими слезами, читая Пушкинского «Ангела». Но вместе с тем он знал, что его демон – не может остановиться на умилении, что сияние совершенства, блеснув пред ним и осветив ужас его собственной тьмы, неизбежно родит в нем страсть во что бы то ни стало слиться с этой светозарной стихией, отдаться ей, избыть тоску своего ущербного, тревожного, безрадостного существования. Так его «Демон» становится рассказом не о мгновенной только встрече, не об эстетическом умилении греха пред образом совершенства, но об активном усилии греховного начала преодолеть свою природу. Эта попытка заранее обречена на неудачу, – она и не удастся, – но в самой природе греха лежит его скорбное самосознание, а следовательно и непобедимая потребность искать себе исцеления, то есть жаждать, домогаться. Только совершенство пассивно (и, однако, несмотря на свою пассивность, могущественно), грех же неизбежно, в силу своего страдания, активен: этот намек Пушкина Лермонтов раскрыл и довел до конца.
3
Пушкинский демон был тоже образ автобиографический; Пушкин сам говорит это в стихотворении «Демон». В Пушкине было все – и злые омуты, и гады. Не менее Лермонтова он изведал и «мрак земных сует», и «алчный грех», и омертвелость духа, когда «сердце пусто, празден ум»; и пред ним вставали жгучим укором «видения первоначальных, чистых дней». Тютчев хорошо сказал о нем:
Он был богов орган живой,Но с кровью в жилах… знойной кровью{53}.Темный голос этой крови властвовал над ним неодолимо, томил его, мучил его. И все же он сравнительно легко несет сознание своей греховности. Не то, чтобы оно не угнетало его подчас; надо ли напоминать те строки, те пламенные признания, где он дал волю своему стыду и своему раскаянию, хотя бы, например, «Когда для смертного умолкнет шумный день»? Но он фаталист; он твердо знает, что своей души ему не переделать, и оттого он не ищет святости, даже не понимает, чтобы ее можно было искать. Он констатирует, как факт, без сентиментального сокрушения:
Напрасно я бегу к сионским высотам:Грех алчный гонится за мною по пятам.Эти сионские высоты влекут его к себе, но, как его демон в стихотворении «Ангел», он только с умилением созерцает их; даже в самые страшные минуты самосознания он способен только «лить потоки слез»; ни одного намека на готовность очиститься, сделать хоть малое усилие к перерождению. Его известные стансы к митрополиту Филарету – точная аналогия к «Ангелу»:
Твоим огнем душа палима,Отвергла мрак земных сует,И внемлет арфе серафимаВ священном ужасе поэт.Там – эстетическое умиление пред святостью, здесь – стыд и ужас; но оба чувства совершенно пассивны, так сказать, завзято-пассивны.
Душа человеческая первозданна, ничему не подвластна и управляется своими внутренними законами – эта мысль есть ось Пушкинского мировоззрения. Ни моя разумная воля, ни явления внешнего мира ничего не могут изменить в ней; следуя каким-то своим таинственным законам, она то мертвеет, то оживает сама в себе, – и в каждом своем состоянии она сама присваивает себе из действительности те элементы, которые соответствуют ее состоянию, потому что действительность в каждый миг содержит бесчисленные элементы, самые противоположные между собою: выбирает, притом конгениально, сама душа. Мы еще слишком мало знаем это мировоззрение Пушкина: его стихи гладки – скользнешь, и не заметишь, что в них. Но если читать их медленно, в них открываются удивительные мысли. Он пишет:
Остались мне одни страданья,Плоды сердечной пустоты.Что же это? Значит страданий объективно нет? Нет, отвечает Пушкин; страдание – только плод сердечной пустоты; внешний факт становится страданием только в силу известного душевного состояния, предшествующего ему и от него независимого. Так и все внешнее, по мысли Пушкина, нейтрально; жизнь духа неисследимо автономна. В стихотворении «Я помню чудное мгновенье» Пушкин рассказывает о реальных вещах – о двух своих встречах с А. П. Керн. Первая их мимолетная встреча была в Петербурге в 1819 г., вторая, которою собственно и вызвана пьеса Пушкина, – в июне 1825 г. в Тригорском; между обеими встречами легли долгие годы ссылки и душевной омертвелости Пушкина. И вот, рассказав об этой омертвелости, когда он жил «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви», Пушкин продолжает:
Душе настало пробужденье:И вот опять явилась ты,Как мимолетное виденье,Как гений чистой красоты.Совсем не так, как хотели объяснять биографы, – что новая встреча с Керн в 1825 году пробудила Пушкина от апатии. Как раз наоборот (надо обратить внимание на слова «и вот»): душа проснулась самочинно, в ней совершился таинственный кризис, (так Пушкин говорит и в одном из подражаний Корану: «Настал пробужденья для путника час», то есть настал «по воле владыки небес и земли»), – именно в силу того, что душа проснулась, – ей предстало светлое виденье; не проснувшейся душе А. П. Керн предстала бы просто как красивая женщина, как небесное видение. Оттого Пушкин, с бессознательным умыслом, и употребил здесь такие бесплотные слова: виденье, гений красоты; это «виденье» – плод душевной полноты, как страданье есть плод душевной омертвелости. Все в мире – призрак, но все приобретает существенность – в духе. Так и в «Онегине»:
Душа лишь только разгоралась,И сердцу женщина являласьКаким-то чистым божеством.Владея чувствами, умом,Она сияла совершенством{54}.4
Всякому, кто со вниманием прочтет различные редакции «Демона», будет ясно, что Лермонтов строил план своей поэмы вполне сознательно. Особенно любопытна в этом отношении одна из ранних редакций – 1830 года. Первая, нечаянная встреча (подслушанная демоном песня монахини) вызывает в демоне умиление – совершенно по-пушкински. Но Пушкин на этом и кончает – Лермонтов идет дальше: демон уже не властен забыть эти звуки и это виденье; они —
Остались на душе его,И в памяти сего мгновеньяУж не загладит ничего.Проходит некоторое время, демон тщетно силится «незабвенное забыть», запавшая искра тлеет в нем – но вот оказывается:
тот железный сонПрошел… любить он может… может…И, наконец, – совершилось: «И в самом деле любит он».
Так же твердо, как и Пушкин, Лермонтов знал, что грех и страдание греха предопределены и неисцелимы; попытка демона обречена на неудачу, – и все же Лермонтов заставляет его сделать эту попытку, а в последних редакциях поэмы вкладывает в его речи такую глубокую боль, такую страстную веру в возможность для него спасения, что о коварном искусительстве не может быть и подозрения. Демон верит, не может не верить при первом проблеске надежды, потому что его муки нестерпимы.
Таков был сам Лермонтов. Пушкин смирялся пред неизбежностью. Лермонтов не мог смиряться, и это, очевидно, потому, что душевные страдания Лермонтова (его самосознание несовершенства) были несравненно мучительнее, нежели у Пушкина. Вся поэзия Лермонтова, насколько он говорит о самом себе, – сплошной стон, сплошное проклятие. Если читать его стихи медленно и с участием, – сердце сжимается жалостью: как ужасны были его настроения! как безрадостна и трудна его жизнь! Перечтите «И скучно, и грустно», или удивительное по глубине и сосредоточенности чувства «Гляжу на будущность с боязнью», – эти слова последней скорби:
Я в мире не оставлю брата;И тьмой и холодом объятаДуша усталая моя…Кто еще так страдал? А глаза сухи, слез нет и не будет… Бедный поэт!
Но Лермонтова уже нет, его страдания кончились, и мы можем спокойно изучать его душевную жизнь, чтобы научиться лучше понимать его поэзию – и самих себя. Мы подошли теперь к самому главному – к вопросу о характере его страдания.
Я сказал, что настроения Лермонтова с самого отрочества были сплошной пыткой; по сравнению с его муками душевная жизнь Пушкина была в общем очень счастлива, то есть сравнительно спокойна, ясна, часто празднична. И вот именно эта великая острота боли делала Лермонтова до такой степени нетерпеливым и, можно сказать, корыстным. Он так страдает, что ему не до размышлений о своем несовершенстве; он болен – болен пустынностью и тревожностью своего духа, болен своей ущербностью и одиночеством, – и он жаждет одного: исцелиться, то есть обрести полноту чувств и душевный покой. Пушкин хорошо знал чистое чувство греховности, то настроение, когда человек говорит себе: пусть я не властен не согрешать, но мне больно и стыдно, что я так далек от совершенства. Пушкин знал «змеи сердечной угрызенья»; все помнят эти стихи:
И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю,И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю{55}.Такого покаянного псалма никогда не мог бы написать Лермонтов. В его поэзии вообще нельзя открыть ни малейших признаков покаяния. Чувство греха ему чуждо, и совершенство манит его не потому, что оно само по себе прекрасно, а потому, что оно сыто, спокойно и счастливо, тогда как он голоден, тревожен и несчастен. Вот почему демон Пушкина при виде ангела только умилен:
Прости, он рек, тебя я видел,И ты не даром мне сиял:Не все я в небе ненавидел,Не все я в мире презирал.Чувства более бескорыстного, чем это, нельзя себе и представить. Умиление же Лермонтовского демона длится едва мгновение, чтобы тотчас уступить место своекорыстной мечте об исцелении. Так Пушкин благоговеет пред красотою совершенства, смиренно сознавая ее недосягаемость для себя, а Лермонтов завидует счастью совершенства, мятежно силится овладеть им. Два полюса религиозного сознания, два крайних чувства, неизменно присущих в смешении каждой человеческой душе. И так ярко их изображение, точно нашим двум величайшим поэтам было предназначено демонстрировать пред всем светом эти две типичные односторонности в их наиболее чистой форме[14].
Многие пути ведут ко спасению, и каждой душе предуказан свой путь. Они оба ясно видели пред собою солнце, которое большая часть людей только смутно чует, как железо чует магнит: образ совершенства; и оба тосковали о нем, хотя и по-разному. Чистое умиление Пушкина и бурное вожделение Лермонтова равно святы, ибо дело идет о горней красе, не о земной. Молится ли подвижник незлобивый сердцем, проливая слезы умиления и благодарности, или преступная душа скорбит несказанной скорбью о черноте своей и с проклятиями молит исцеления своих мук, – не то же ли небесное пламя там светит, здесь жжет? Поэзия Пушкина и поэзия Лермонтова – два разных служения, и нет смысла судить, чье служение выше. Но нам важно смотреть и заметить. Они оба одинаково знали каким-то недоказуемым, но необыкновенно уверенным знанием, что есть некая норма бытия, совершенство; невольное отступление от этой нормы Пушкин ощущал в себе как грех, Лермонтов – как причину своих душевных страданий. Как сложился в них этот умопостигаемый образ? Их непоколебимая вера в его реальность носит все признаки опытного знания. Вернее всего зримого и осязаемого они видели мир такой, какого внешний опыт и рассудок не знают; очевидно, у них был и другой, более тонкий опыт, – иначе их уверенность была бы или притворством, или бредом, чему противоречат страстная искренность и формальная красота их признаний. Они не учители идеалов, а повествователи о виденном ими, очевидцы и свидетели подлинно-сущего. Именно в этой убежденности их свидетельств, в этом всенародном оглашении результатов высшего душевного опыта заключается ценность их поэзии, как и всякого истинного искусства.
Терновый венец
Человек – царь природы, и царствует он в силу своего разума. Но как дорого он платит за эту власть! Как тягостно бремя разума! Какое счастье было бы скинуть тяжелую шапку Мономаха и стать хоть на одно летучее мгновение простым обывателем вселенной, наравне с ветром и облаком, растением и зверем! За властью не успеваешь жить, а так хочется пожить, побыть вольным и праздным. Бессонный разум нудит и гонит ставить цели, достижение одной цели рождает другую, и человек кругом опутан неисчислимыми целеположениями своего принудительного разума; безмерное напряжение сил, ни дня покоя и свободной радости! И к тому еще побочные тяготы власти – сознание прошлого и сознание будущего, то есть тоска и раскаяние о прошлом, и страх, этот проклятый страх, неразлучный спутник всякого владычества, кара за его беззаконность, – потому что космически всякая власть беззаконна и всякая тайно знает это, что и есть страх царей пред крамолой и страх разума пред судьбою.
Вся русская поэзия есть мечта о самозабвении: сложить царский венец разума и зажить беззаботно, стихийно, а если вовсе – нельзя, то хоть на миг. Не только Тютчев, чье творчество – поистине «Соломоновы притчи» и «Песнь песней» царствующего разума, – нет, таков даже Пушкин, гармонический Пушкин. Он часто говорит о забвении и называет его сладким: «В забвении сладком»; для него забвение – синоним восторга:
День восторгов, день забвеньяНам наверное назначь{56};он определяет Элизиум так:
Там бессмертье, там забвеньеТам утехам нет конца{57};он говорит о любви:
Друзья! не всё ль одно и то же:Забыться праздною душойВ блестящей зале, в модной ложе,Или в кибитке кочевой?{58}У него есть стихотворение, бросающее свет на эту складку его сознания, – пьеса «Не дай мне Бог сойти с ума». Он говорит: мне разум нужен – но не для меня: он нужен обществу во мне; поэтому, утратив разум, я становлюсь неудобен, даже опасен обществу, и оно запрет меня в клетку. Но если бы не эта внешняя угроза, как хорошо было бы избавиться от разума! Для меня лично он только помеха; как счастлив я был бы без него! И тут Пушкин рисует картину блаженного безумия.