
Полная версия
Правовые акты. Оценка последствий. Научно-практическое пособие
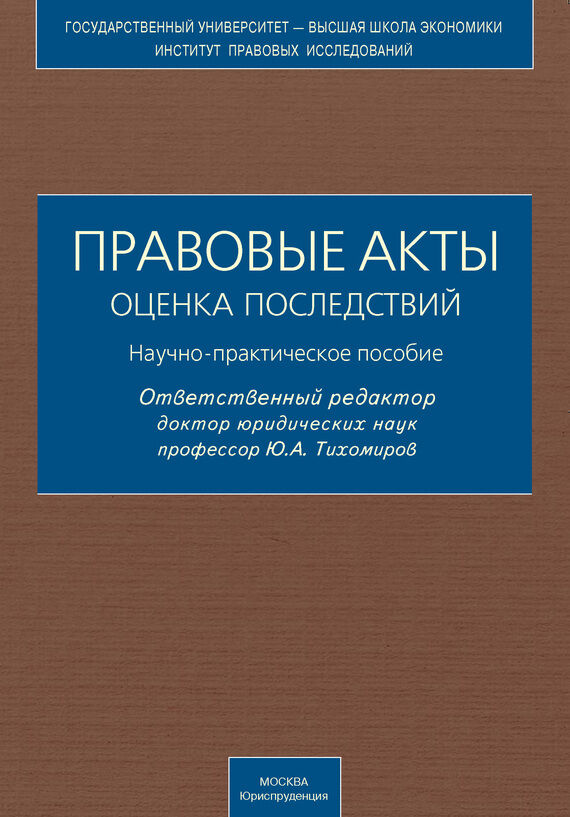
Правовые акты. Оценка последствий. Научно-практическое пособие
© Кашанин А. В.; Тихомиров А. Ю.; Третьяков С. В.; Черепанова Е. В.; 2011
© «ИД «Юриспруденция», 2011
* * *Предисловие
Общество заинтересовано в эффективном правовом регулировании. Это всецело объясняется потребностями стабильного обеспечения прав и свобод граждан, безопасности, устойчивого развития экономики и социальной сферы. Но обоснованный выбор средств правового воздействия очень труден, поскольку приходится учитывать противоречивое влияние внешней среды и многообразие поведенческих актов в правовой сфере. Учитывая сложность реализации права, коллектив Института правовых исследований ГУ – ВШЭ подготовил цикл исследований, начало которому было положено книгой «Правоприменение: теория и практика» (2008 г.). В 2010 г. увидела свет книга «Эффективность законодательства в экономической сфере».
Предложенная вниманию читателя третья книга посвящена разработке механизмов анализа и оценки последствий нормативных правовых актов. Ее условно можно разделить на две части. В первых главах обстоятельно рассматриваются традиционные и новые методологические подходы к преобразовательному воздействию права на экономические и иные общественные отношения. Последующие главы посвящены своего рода аналитико-оценочным способам изучения реализации правовых актов.
Книга содержит целый ряд научно-практических рекомендаций, полезных для теории и практики правотворчества и правоприменения. Ее можно использовать в учебном процессе высших учебных заведений в рамках программ «Теория права и государства», «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право», «Уголовное право», а также на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов публичных органов, бизнес-структур и учреждений.
Книга подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований ГУ – ВШЭ.
Глава 1. Природа последствий нормативных и иных правовых актов
§ 1. Цели нормативных правовых актов, их последствия и результаты
По ряду причин мы считаем целесообразным анализ теоретических моделей эффективности правовых предписаний начать с классической позитивистской юридической теории. Прежде всего следует учитывать, что указанная школа права длительное время занимала господствующие позиции в западной юриспруденции. Однако более важным является то, что в отечественной юридической науке традиционные позитивистские взгляды не только в течение долгого времени оставались по сути безальтернативными, но и в настоящее время являются, безусловно, доминирующими как в правоведении, так и в мировоззрении законодателя и правоприменителя. В этой связи сама постановка вопроса об эффективности права в отечественной юриспруденции чаще всего имплицирует определенную модель правопонимания, что само по себе определяет ограничения в получении эвристически полезных результатов.
Классическая позитивистская юридическая теория, имплицирующая формальное понятие эффективности закона как фактической реализации сформулированной законодателем цели соответствующего правового предписания, предполагает конкретизацию понятий цели, последствия и результата действия нормативного правового акта как предпосылки для содержательного анализа эффективности конкретных правовых предписаний.
Так, например, для советской доктрины можно считать классическим понимание эффективности правовых норм как соотношения между действительным результатом и целью, а также между достигнутым результатом и применяемыми для его достижения средствами. Цель правовой нормы – эталон оценки ее эффективности[1]. В более широком контексте право рассматривается как инструмент социального управления. Однако и здесь цель правовых норм рассматривается как критерий оценки их эффективности. Результатами действия правовых норм являются юридическая и социальная эффективность. Юридическая эффективность означает соответствие поведения людей норме права. Социальная эффективность характеризует социальную цель, которая находится вне сферы правового регулирования. Условиями эффективности норм права являются: 1) соответствие норм условиям развития; 2) совершенство правоприменения; 3) уровень правосознания и характер поведения граждан. Методика изучения уровня эффективности правовых норм включает в себя: а) выявление социальной проблемы; б) установление социальных целей; в) операционные определения; г) критерии и показатели эффективности; д) проблему вычленения роли правового фактора[2].
В этом контексте цель нормативного правового акта могла бы формулироваться через понятие направленности на социальный эффект, который должен быть достигнут при реализации правового предписания. Соответственно, последствия (результат действия) нормативного правового акта должны определяться как фактический социальный эффект его реализации. При этом последствия и результаты нормативного акта часто дифференцируются по признаку намеренности, так что результат определяется как эффект сознательного применения нормы права.
Мы считаем необходимым дистанцироваться от общепринятой понятийной матрицы по следующим причинам. Прежде всего, указанные понятия имманентны определенной (формальной) модели эффективности права, которая, как будет продемонстрировано далее, в действительности блокирует содержательный анализ эффективности правовых предписаний.
Следует учитывать, что исторически первой получила развитие концепция эффективности права, не связанная с конкретизацией целей законодателя. Речь идет о пандектистской модели юридической науки, исходящей из классической для правовой доктрины дихотомии между частным и публичным правом. Классическая цивилистическая методология (сохраняющая до сих пор значительное влияние в частноправовой и в целом юридической теории и фундирующая всю частноправовую науку) предполагает весьма своеобразную модель эффективности закона. Следствием этого является то, что она блокирует на уровнях синтаксическом (система категорий науки и отношений между ними) и семантическом (значение указанных категорий) представление о манипулируемости содержания правовых норм. Иными словами, с точки зрения классической модели частноправовой науки невозможно с помощью правового регулирования преследовать какую-либо конкретную социальную цель (выражаясь языком экономической теории, преследовать цель перераспределения дохода путем вмешательства государства во взаимоотношения субъектов рыночной экономики). Роль права может состоять лишь в фиксации правил игры путем предоставления субъектам формальных и абстрактных возможностей поведения, реализация которых оставлена на усмотрение самих субъектов.
Такая модель эффективности гораздо менее гармонична в рамках публичного права. Первоначально теория публичного права развивалась под сильным влиянием пандектистской модели юридической науки. Это позволило в определенной мере унифицировать категории науки частного и публичного права и на концептуальном уровне сформулировать общее понятие о праве в виде концепции «общей теории права». Однако впоследствии по мере роста государственного вмешательства в экономику содержание опосредующих это вмешательство публично-правовых норм перестало соответствовать модели частноправовой нормы, концептуализированной в рамках пандектистской теории. Нормы публичного права в определенных областях и даже некоторые нормы частного права стали все более и более терять свой имперсональный и нейтральный характер и все чаще стали направляться на реализацию конкретной цели и формулироваться в интересах отдельных конкретных категорий субъектов. Соответственно, эволюционирует представление об эффективности закона в направлении концептуализации эффективности как реализации эмпирической цели нормы.
В результате сформировались и одновременно существуют две теоретические модели эффективности закона, которые с определенной долей условности можно именовать частноправовой и публично-правовой. Одна из них имплицирует специфическое представление об эффективности закона как всеобщности формальных и имперсональных правил и отрицает понятие цели закона, а другая, как будет показано далее, блокирует дискурс о методологии эффективности, вытеснив целеполагание в сферу политического процесса.
Однако даже в рамках публично-правовой модели эффективности закона, которая в принципе позволяет операционализировать категорию эффективности, не было достигнуто существенного прогресса, поскольку такая операционализация наталкивается на противоречивость конструкции цели закона и недостаточность общей позитивистской модели правоприменения.
Основным представлением, на основе которого формируется рассматриваемая теория эффективности закона, следует считать идею, в соответствии с которой правовое регулирование представляет собой процесс, в рамках которого сформулированные публичной властью цели реализуются в общественную практику. Здесь возникает сразу несколько сложных вопросов.
Прежде всего, о каких социальных целях идет речь? Дело в том, что существуют несколько типов целеполагания, связанных с правовым регулированием. Во-первых, очевидно, что речь может идти о конкретных целях государственной политики, реализация которых желательна с точки зрения публичной власти. Здесь можно говорить о воплощении идей «социального инжиниринга», активного преобразования общественных отношений в направлении, которое публичная власть полагает желательным. В рамках данной логики правовой механизм представляет собой лишь «пустую» форму, полезную, с точки зрения государственной политики, именно своей эффективностью, повышенной способностью к реализации благодаря принудительности. Такая «модель» целеполагания подразумевает возможность наделения «внешней» целью любое правовое предписание.
Другая логика основана на поиске «внутренних» целей, имманентных самой правовой форме. Основа этой идеи состоит в том, что право является специфическим регулятором общественных отношений не только (и часто не столько) в силу особой эффективности, понимаемой как принудительность. Уникальность права состоит в том, что социальное регулирование осуществляется особым способом – с помощью общих правил поведения. Ценность формы общих и абстрактных правил поведения состоит в усилении предсказуемости, стабильности и предвидимости социального регулирования, а также в ориентации правовой формы на обеспечение принципа равенства субъектов права[3]. С этой точки зрения право в целом и каждая правовая норма в отдельности выражают прежде всего цели предсказуемости, стабильности и равного отношения закона к субъектам. Все другие цели, которые может воплощать в нормах публичная власть, имеют право на существование лишь постольку, поскольку они не противоречат указанным выше целям.
Кажется очевидным, что рассматриваемая концепция эффективности сопрягается с первой «моделью» целеполагания. Это делает понятной очень важную черту позитивистской теории эффективности. К использованию правового механизма публичная власть прибегает именно в силу особой способности правовой формы к реализации (обусловленной принудительностью). Это представление в свою очередь базируется на убеждении в существовании некоторого подобия автоматической связи между принуждением и эффективностью. Другими словами, публичное принуждение, по этой логике, резко увеличивает шансы той или иной цели на ее имплементацию в общественную практику.
Отметим еще одно обстоятельство, определяющее слабую жизнеспособность традиционного понятия эффективности закона как реализации его цели. Речь идет о практической сложности процедуры установления цели нормы. В предыдущем изложении для простоты изложения мы исходили из допущения «благонамеренности» законодателя. Другими словами, мы считали, что законодатель, формулируя соответствующую правовую норму, преследует цель «общего блага» или, по крайней мере, искренне считает, что сформулиро ванная в норме цель действительно, будучи реализованной, даст позитивный социальный результат. Очевидно, что эта модель является в весьма серьезной мере идеализацией. Но и это не самая большая проблема.
Значительная часть правовых предписаний в современных правовых системах является результатом компромисса между различными социальными группами, обладающими разнонаправленными интересами. Как в таком случае установить «цель» подобного рода компромисса?
С этим связан и другой аспект проблемы, а именно то обстоятельство, что в целом ряде случаев цели регулирования сложно идентифицировать. Не ясно, каким образом устанавливать цель конкретной нормы с учетом того обстоятельства, что норма права является результатом деятельности многих субъектов и инстанций. Необходимо помнить, что «технологически» законодательный процесс весьма сложно организован и многоинстанционен. Проще говоря, чью волю считать целью нормы? Технических экспертов, готовивших документ, парламентариев, которые в некоторых государствах только нажимают кнопки для голосования и не имеют ни малейшего представления ни о цели закона, ни о его содержании? Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что существуют нормативные акты, принятые очень давно (часто это касается отличающихся стабильностью базовых частноправовых кодификаций). В данном случае может быть так, что цель, которая имелась в виду при его принятии, вряд ли может иметь отношение к актуальному ее применению.
Само понятие цели не является однозначно семантически разрешимой категорией. Существуют несколько категорий целей, которые могут противоречить друг другу. Поэтому подобная телеологически ориентированная интерпретация норм может давать весьма произвольные результаты. Сама концепция, ориентирующая правоприменителя на применение нормы с учетом целей законодателя (субъективно-телеологическое толкование), не является бесспорной с точки зрения сомнительной легитимности не выраженных, выраженных неопределенно или противоречиво мотивов лиц, сформулировавших норму права (даже если их представляется возможным бесспорно идентифицировать). Более того, субъективно-телеологическая теория толкования трудно совместима с пробельностью права и противоречивостью правового регулирования, которые во многих случаях делают невозможным следование ее рекомендациям.
К этим препятствиям следует добавить еще один важный аспект. Классическая юридическая теория даже не задается вопросом о том, насколько вообще выраженная в тексте закона социальная цель может быть реализована в данных социальных условиях, об альтернативных вариантах решения соответствующего вопроса и о незапланированных внешних эффектах соответствующей правовой нормы. Между тем, в большинстве случаев, особенно в экономической сфере, эффективность реализации права будет определяться именно этими факторами, а не количеством зарегистрированных в соответствующей области правонарушений и наложенных взысканий, а также оперативных мероприятий правоохранительных органов, по пресечению несоблюдения норм права.
Соответственно, разработка приемлемой методики оценки эффективности предполагает не только формирование инструментария для выявления целей закона и способов оценки их реализации в общественных отношениях, но и отказ от традиционных для юридико-позитивистской модели представлений об автоматическом характере реализации норм права, когда вопрос об эффективности по существу сводится к технологии реализации цели закона (причем только к юридическим аспектам этой технологии – комплексу «мероприятий» правоприменительных и правоохранительных органов), даже без постановки вопроса об оценке самой возможности или невозможности реализации соответствующей нормы права.
В этой связи общее формальное понятие эффективности закона как фактической реализации сформулированной законодателем цели соответствующего правового предписания явным образом требует критической проверки. Такое понимание, которое у нас рассматривается как безальтернативное, является лишь одной, хотя до недавнего времени господствующей, его версией. Вместе с тем последние десятилетия дали богатейший эмпирический материал (в основном и прежде всего это касается опыта правовой реформы в странах с переходной экономикой), который самым серьезным образом стимулировал дискуссии по проблемам теории эффективности права как части теории соотношения правовой системы и общества. Кроме того, еще одним важнейшим фактором, который сильно сместил акценты в исследовании проблем эффективности закона, стали процессы активного использования юридической наукой методов и теоретических моделей, разработанных в рамках экономических наук. В следующих параграфах указанные теоретические модели эффективности правовых предписаний будут проанализированы подробнее.
§ 2. Теоретические подходы к оценке эффективности нормативных правовых актов
Логические предпосылки постановки вопроса об эффективности правовых предписаний
Самое общее понимание эффективности закона подразумевает оценку результативности воздействия права на социальные процессы, степени реализации целей правового воздействия на общественные отношения. Однако в таком случае концепция эффективности правовых предписаний корреспондирует совершенно определенной теории правовой формы.
Постановка вопроса о результативности правового регулирования, степени реализации цели правового предписания предполагает прежде всего сознательность, рефлексивность дизайна правового предписания, возможность «целеполагания» при возникновении правовой нормы. Совершенно очевидно, что сложно говорить об «эффективности» правовых предписаний, которые не являются результатом сознательной волевой деятельности, а возникают стихийно, спонтанно, без активного «конструирования». Этим определяются препятствия в постановке вопроса об эффективности права в так называемый домодерновый (позитивистский) период.
Так, существуют серьезные препятствия для формирования теории правореализации на основе понятия эффективности в правовых системах, в которых в качестве источника права преобладает правовой обычай. Этот вывод можно распространить также на любые правовые системы, которые основываются на идее традиционного и стихийного характера генезиса правовой формы. Это касается в первую очередь европейских средневековых правовых систем, в которых даже правовые предписания, сформулированные в актах политического суверена, рассматривались лишь как «обнаруженное» сувереном право, которое существовало в виде обычая и до момента фиксации в соответствующем акте. В соответствии с логикой того периода содержание правового предписания не могло быть произвольным, зависеть исключительно от воли политического суверена и легитимироваться исключительно формально. Соответственно, отнюдь не любая произвольно определенная политическим сувереном цель предписания могла быть сформулирована и достигнута посредством реализации этого правового предписания.
Привычное для современного юридического и социального дискурса представление о сознательном «форматировании» общественных отношений посредством правового регулирования для достижения определенных социально значимых целей не было характерно для «домодернового» правопонимания[4]. Преобразование социальной практики путем активного вмешательства в нее с помощью права несовместимо с представлением о праве как выражении «социального мира», традиции, укорененной в опыте предшествующих поколений, т. е. праве как концентрированном выражении существующих социальных практик. Для того чтобы право стало инструментом преобразования социальной практики, и, соответственно, стала уместной постановка вопроса о его эффективности, необходимо блокировать связи между первым и последними как на формальном, так и на материальном уровнях.
С формальной точки зрения речь должна идти об обосновании самостоятельного источника легитимности нормы права, содержащейся в акте публичной власти, в самом факте издания этого акта компетентным лицом. С содержательной стороны требовалось содержание самого правового предписания сделать независимым от факта выражения в нем господствующей социальной практики. Оба этих условия могли реализоваться лишь с момента формирования современных национальных государств[5].
Только после того, как в юридический дискурс была введена конструкция суверенитета, появилась возможность легитимировать содержание правовых предписаний самим фактом их принятия в рамках производной от суверенитета компетенции. По сути это означало, что содержание правового предписания не связано с его легитимностью и определяется в рамках политического процесса. Таким образом, содержание права стало доступным политически мотивированным манипуляциям. Речь идет о возможности сознательного выбора вариантов регулирования, т. е. подразумеваются вариативность и селективность модели правового регулирования.
Ослабление связи между содержанием правового регулирования и господствующими общественными практиками может привести к возрастанию роли политически мотивированного фактора в генезисе правовых предписаний. Основанное на признании данного тезиса правопонимание хотя и необходимо для осмысленной постановки вопроса об эффективности правовых предписаний, однако само по себе еще не делает ее обязательной, поскольку выявленная корреляция не имеет характера необходимой связи.
Сам по себе факт роста значения волевых, «сознательных» элементов в дизайне правовых предписаний по сравнению со «стихийными» не означает, что «сознательный дизайн» будет канализирован именно в направлении политически мотивированных решений. Теоретически допустима модель правотворчества и правоприменительных решений, ориентированная исключительно на подтверждение существующих социальных практик.
Подтверждением указанного вывода является идея кодификации в той классической форме выражения, которую она приобрела в Европе в XIX столетии. Для верного понимания указанного тезиса необходимо иметь в виду, что классическое представление о кодификации не сводится лишь к систематическому сведению всех норм, относящихся к более или менее произвольно выбранной правотворцем предметной области. Классическая модель кодификации представляет собой не просто разновидность систематизации. Это систематизация на основе общих принципов, характеризующих единый для регулируемых общественных отношений правовой режим.
При таком понимании кодификации содержанием кодифицированного акта не могут являться результаты произвольного и политически мотивированного «социального инжиниринга» политического суверена. Кодекс может лишь закреплять результаты научной обработки индуктивных обобщений судебной практики и господствующих социальных практик (гражданского оборота – для частноправовых кодификаций, являющихся кодификациями par excellence). Основанная на кодификационной модели правовая система обладает весьма скромным потенциалом для реализации концепции активного «социального инжиниринга» и, следовательно, рефлексивной концепции эффективности закона.
Это позволяет внести некоторую ясность в вопрос о том, какая модель закона позволяет сформулировать непротиворечивую теорию эффективности. Эта модель наиболее точно может быть охарактеризована как инструменталистская. Суть инструменталистской модели нормативного акта заключается в восприятии его в качестве политического инструмента активного преобразования социальных отношений. Это определяет основные формальные особенности такой модели.
Прежде всего содержание инструменталистски понимаемого нормативного акта не может быть производным от господствующих социальных практик, поскольку основной задачей такого нормативного акта как раз и должно являться активное воздействие на эти практики с целью их преобразования в желаемом направлении. Это в свою очередь означает, что правовая форма всеобъемлющего кодифицированного правового акта не является оптимальной для реализации инструменталистской концепции правового регулирования. Предпочтительнее в этом случае использовать форму обычного закона, посвященного регулированию отдельного вопроса. Здесь часто используется предметный критерий (закон о торговле и т. д.). Это связано с тем обстоятельством, что такая правовая форма позволяет решить конкретную проблему без учета ее влияния на другие аспекты правового регулирования («точечное» регулирование) и позволяет более оперативно изменять содержание установленных предписаний. Очевидно различие и в функциях закона-кодекса и закона-инструмента. Основной смысл модели закона-кодекса состоит в закреплении правил игры субъектов права, содержание которых конденсируется из господствующих в соответствующей сфере социальных практик, что обеспечивает «нейтральность» закона по отношению к различным группам субъектов. Функция такого типа правового регулирования состоит в основном в обеспечении определенности правового положения субъектов, гарантированности единства и стабильности правил, по которым они взаимодействуют, и устранении возможности произвольного изменения этих правил либо активного вмешательства государства в интересах одной из сторон.









