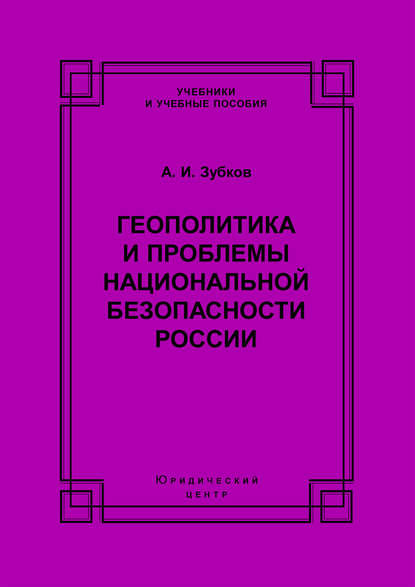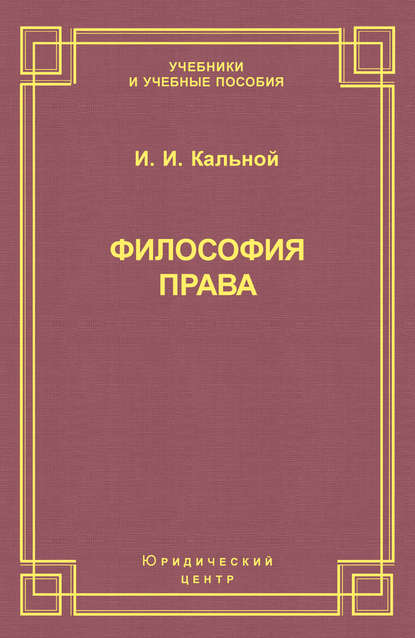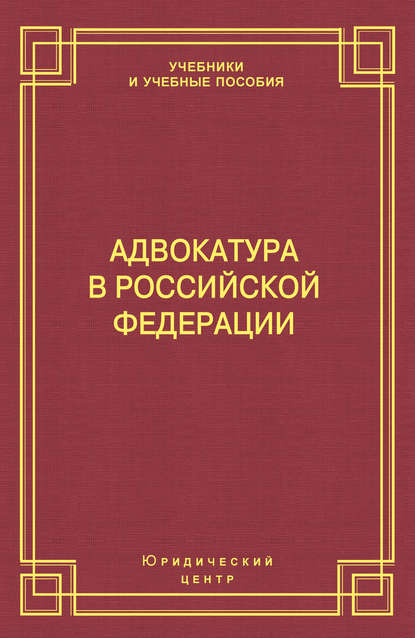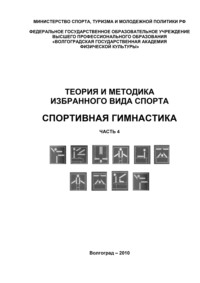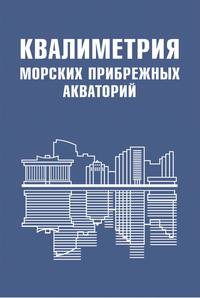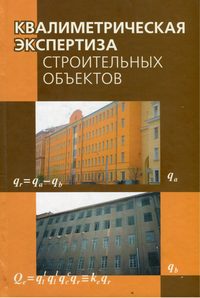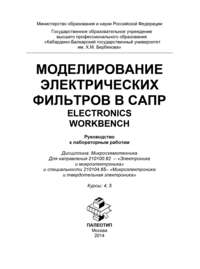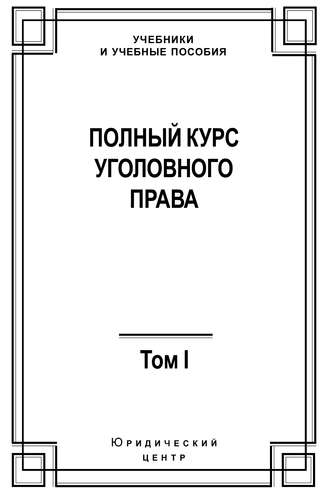
Полная версия
Полный курс уголовного права. Том I. Преступление и наказание
По И. Канту, метод – это способ действия[25]. Способов может быть много, поэтому Кант выделяет следующие виды методов: догматический, критический, натуралистический, научный, синтетический, скептический, экспериментальный и математический. Не все из них используются наукой уголовного права непосредственно.
С. П. Мокринский в начале прошлого века выделял три метода: догматический, политический, этический. Н. С. Таганцев приблизительно в то же время писал о догматическом и критическом методах. А. В. Наумов сегодня выделяет: догматический, социологический, сравнительно-правовой, диалектический (философский) методы, завершая это перечисление многозначительным «и др.»[26], что дает основания предполагать наличие целого ряда других методов. Ничего удивительного в этом нет, так как терминологическая многозначность и концептуальная неоднородность присущи теории как таковой.
Полагая в целом предложенный А. В. Наумовым набор методов приемлемым, считаем необходимым добавить еще и метод криминологический. Сложилась такая ситуация, при которой его подразумевают и им пользуются все без исключения исследователи, но никто о нем не говорит. Вряд ли такую практику «умолчания» можно признать оправданной.
В самом общем виде методы науки уголовного права могут быть подразделены на формальные и содержательные. К первым относятся догматический, сравнительно-правовой, историко-правовой методы. Ко вторым – философский, социологический и криминологический. Деление это достаточно условное и, как и всякая классификация, носит вспомогательный характер.
Догматический (или логический, формально-логический, грамматический, синтаксический, герменевтический, собственно юридический) метод позволяет уяснить смысл правовой нормы с помощью анализа логической конструкции нормы и значения терминов, использованных законодателем. Это один из самых древних методов познания. Все остальные методы в определенном смысле производны от него. Когда-то он был самодостаточным, ибо позволял вполне адекватно ситуации досконально изучить самую норму как таковую либо совокупность норм, институтов, понятий уголовного права. Однако в связи с усложнением общественных отношений, всей структуры общества его возможности в познании уголовно-правовой материи постепенно сужались. Это привело к тому, что в отечественной литературе одно время он и вовсе не учитывался. Между тем в период бурного обновления законодательства роль этого метода возрастает как никогда. Недаром Н. С. Таганцев писал: «Появление нового полного кодекса всегда выдвигает на пер вый план работы чисто догматические»[27]. Оно и понятно: при кажущейся стабильности основных понятий уголовного права они с течением времени могут приобретать новый смысл, отличный от того, что был прежде. Принятие же нового уголовного закона всегда заставляет пересмотреть весь научно-операционный аппарат.
Сравнительно-правовой метод, как следует из самого названия, заключается в анализе норм уголовного права в сравнении с другими нормами. Как правило, все исследователи говорят о сравнении с нормами и институтами уголовного права зарубежных стран. Но это только одна сторона данного метода – компаративистский аспект. Другая обязательная составляющая анализируемого метода заключается в сравнении норм и институтов уголовного права с аналогичными институтами других отраслей российского права. Например, институт ареста известен, помимо уголовного, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному, административному и другим отраслям права.
Использование рассматриваемого метода позволяет, во-первых, учитывать весь потенциал отечественного законодательства, во-вторых, учитывать и внедрять все лучшие мировые достижения уголовно-правовой мысли.
Применение этого метода позволяет не только лучше познать день сегодняшний, но и определить тенденции в развитии уголовного законодательства. Знание же тенденций имеет огромное значение для своевременного обновления законодательства, для теоретической работы «на опережение». Грамотное использование именно этого метода позволяет поддерживать уголовное законодательство на современном мировом уровне.
Историко-правовой, или исторический, метод дает возможность взглянуть на нормы и институты уголовного права через призму собственно исторического развития уголовного права и уголовно-правовой науки. К сожалению, до недавнего времени использование этого метода сводилось к критике досоциалистических правовых учений. Критика полезна только применительно к дню сегодняшнему. История же, как известно, не знает сослагательного наклонения, поэтому критиковать прошлое так же бессмысленно, как обижаться на вчерашний дождь. Не критиковать – не значит не делать выводов и не учиться на ошибках прошлого в том случае, если они были. Таким образом, этот метод имеет огромное учебно-познавательное и воспитательное значение. Умный законодатель учится на ошибках других.
История отечественной уголовно-правовой мысли весьма богата и насыщена оригинальными самобытными идеями. Это в равной степени относится как к теории, так и к практике законотворчества. Российские уголовно-правовые традиции едва ли не самые древние в Европе. Дореволюционное уголовное законодательство было исключительно скрупулезно и всесторонне проработано. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в системе уголовного законодательства дореволюционной России «насчитывалось 10 источников уголовного права»[28]. Игнорировать такой богатейший опыт недопустимо. Вот почему необходимо вернуть в научный оборот имена таких выдающихся дореволюционных ученых-мыслителей в области уголовного права, как Л. С. Белогриц-Котляревский, В. В. Есипов, А. Ф. Кистяковский, Г. Е. Колоколов, А. В. Лохвицкий, Н. А. Неклюдов, А. А. Пионтковский, П. П. Пусторослев, Н. Д. Сергеевский, В. Д. Спасович, Н. С. Таганцев, Н. П. Чубинский, И. Я. Фойницкий и др.
Немалый вклад в развитие отечественной уголовно-правовой мысли внесли и советские ученые довоенного периода. Как бы критично мы ни относились сегодня к их идеологическим взглядам и пристрастиям, разработанные ими некоторые фундаментальные институты послужили несомненным импульсом к дальнейшему совершенствованию российского уголовного права. К числу таких исследователей принадлежат: С. Я. Булатов, Г. И. Волков, М. М. Гродзинский, Н. Д. Дурманов, А. А. Жижиленко, М. М. Исаев, М. Ю. Козловский, Н. В. Крыленко, П. И. Люблинский, В. Д. Меньшагин, С. П. Мокринский, Э. Я. Немировский, А. А. Пионтковский (сын), С. В. Познышев, Н. Н. Паше-Озерский, А. Н. Трайнин, Б. С. Утевский, М. А. Чельцов-Бебутов, М. Д. Шаргородский, А. С. Шляпочников, А. Я. Эстрин и др.
Особый период в развитии науки советского уголовного права России приходится на 60–80-е годы минувшего столетия, когда в условиях «хрущевской оттепели» появилась целая плеяда талантливых ученых-криминалистов, чьи научные идеи не потеряли своего значения и по сию пору, а многие теоретические положения и рекомендации, развитые в дальнейшем их коллегами, не только нашли свое воплощение в научных публикациях, но и послужили теоретической базой для реформы уголовного законодательства России 1996 г. Среди таких ученых – Н. С. Алексеев, Г. З. Анашкин, М. М. Бабаев, Н. А. Беляев, Л. В. Багрий-Шахматов, С. С. Бородин, С. Я. Брайнин, Г. Б. Виттенберг, В. А. Владимиров, Б. С. Волков, М. А. Гельфер, П. Ф. Гришанин, П. С. Дагель, Н. И. Загородников, Б. С. Здравомыслов, А. Н. Игнатов, И. И. Карпец, В. Ф. Кириченко, М. И. Ковалев, Г. А. Кригер, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Б. А. Куринов, В. И. Курляндский, Н. С. Лейкина, Б. М. Леонтьев, Ю. И. Ляпунов, П. С. Матышевский, Г. М. Миньковский, Б. С. Никифоров, И. С. Ной, П. С. Ромашкин, А. Л. Ременсон, A. Б. Сахаров, Н. А. Стручков, Ю. М. Ткачевский, В. Д. Филимонов, B. М. Чхиквадзе, М. И. Якубович и др.
Философский, или диалектический, метод очень часто сводят к использованию «в уголовно-правовом исследовании основных законов и категорий диалектики»[29]. В какой-то мере это верно, ибо ни одна конкретная наука не вырабатывает своих философских определений, она использует те, что выработаны философами. Однако сводить философский метод к простому заимствованию и использованию ни в коем случае нельзя. «Философский метод, – писал известный логик П. В. Копнин, – несводим к специальным, как и наоборот, специальный метод нельзя рассматривать преломлением, формой проявления философского… Каждый из специальных методов своеобразен и не является какой-то “маленькой”, плохонькой модификацией диалектики»[30]. Сказано очень точно.
Диалектический метод – это комплексность, системность, масштабность и перспективность, действующие одномоментно в ансамбле, поэтому он в принципе несводим к чему-то одному. Как воспитание человека нельзя сводить к умению здороваться, говорить, общаться и т. д. – воспитанного человека отличает некий стиль, может быть, даже шарм, – так и диалектический метод не сводится к использованию отдельных категорий или приемов диалектики.
Социологический, или конкретно-социологический, метод рассматривает институты уголовного права как социальные явления. Он позволяет анализировать все многообразие связей и зависимостей между правом как социальным феноменом и обществом, изучать социальные функции права и комплексные процессы трансформации юридических норм в социально значимое поведение во всех возможных деталях. Именно на блюдение жизни во всем ее многообразии позволяет вскрыть социальную обусловленность уголовно-правовых норм, понять механизм реального действия норм права и узнать их эффективность.
Социологический метод заключается в проведении различных конкретно-социологических исследований, при осуществлении которых могут использоваться различные частные социологические приемы и методы сбора информации и ее анализа. Последние десятилетия наука накопила достаточно большой опыт проведения таких исследований. Жаль, что полученные результаты далеко не всегда используются. Как писал Н. С. Таганцев, «из жизни для жизни – вот девиз, который должен быть начертан на знамени законодателя»[31]. Использование социологического метода как нельзя лучше отражает следование этому девизу.
Криминологический метод. Он сродни социологическому, но имеет четко выраженную направленность – позволяет понять, как уголовный закон сказывается на уровне и динамике преступности: ведет к снижению, дает рост или является статистически безразличным. Кроме того, изучение с помощью этого метода санкций дает ответ на вопрос об установленном государством уровне уголовно-правовой репрессии и о соотношении этого уровня с общественными ожиданиями. При этом всегда выявляются определенные расхождения. Так, многочисленными социологическими исследованиями установлено, что население постоянно недовольно уровнем уголовного наказания «вообще» и одновременно эти же люди требуют снижения наказания тем, кого они знают (товарищи или знакомые по работе, соседи); наряду с призывами жестче наказывать преступников одновременно раздаются такие же требования об отмене смертной казни и т. д. Все это свидетельствует как о неоднородности человеческих устремлений, так и о необходимости дифференцированного подхода при определении наказания в каждом конкретном случае.
Таковы основные методы науки уголовного права. Вместе с тем следует иметь в виду, что в процессе проведения теоретических исследований наукой уголовного права широко используются положения и выводы других общественных наук, например: философии (в частности, для исследования причинной связи или свободы воли в уголовном праве); экономики (для изучения проблем борьбы с преступлениями в сфере экономики); психологии (для изучения вины как субъективной стороны преступления); психиатрии (для раскрытия понятия невменяемости) и т. д.
Глава II
Уголовное право и преступность
§ 1. Уголовное право и криминология
История преступлений почти столь же продолжительна, как и история рода человеческого на Земле. Изменялись формы преступного поведения, уголовное законодательство также не оставалось неизменным. Социальная реальность во всем своем многообразии влияет на развитие уголовного законодательства. При этом необходимо учитывать:
– фактически совершаемые деяния, реально создающие высокую общественную опасность для людей, общества, различных социальных групп и институтов; результативность применяемых уголовно-правовых мер и др.;
– общественные настроения, требования разных социальных групп населения;
– научные оценки и рекомендации;
– политические, экономические, религиозные, социально-психологические, иные идеологические установки субъектов власти, способные приводить к корректировке объективных общественных оценок деяний, видов наказаний, принципов уголовной ответственности, научных рекомендации и даже к очевидному игнорированию общественного мнения;
– материальные и духовные характеристики социальной среды, в условиях которых применяется и исполняется уголовный закон. Материальные условия жизни, например, определяют возможности реального выявления и реагирования на те или иные нарушения уголовного закона. Духовный фактор определяет отношение к нарушениям уголовного закона и к субъектам преступлений, в том числе занимающим разное положение в обществе. Многое при этом зависит от правовой культуры членов общества, позитивной социально-правовой активности граждан и других обстоятельств.
В то же время при создании и изменении уголовного законодательства учитываются закономерности его функционирования; уголовно-правовые основы и принципы, зарекомендовавшие себя на практике как необходимые и важные; определенные правила юридической техники и все то, что составляет предмет и содержание науки уголовного права.
Эффективность уголовного законодательства во многом зависит от его криминологической обусловленности: насколько точно уголовный закон отражает характеристики реально совершаемых высоко общественно опасных деяний; учитывает данные о субъектах таких деяний, сложных системных взаимосвязях деяний и деятелей, а также факт их постоянного изменения, развития, мотивацию, причины и условия совершения преступлений, изменения их характеристик.
Давно уже сказано: “Bene diagnostitur, bene curatur” («Хорошо лечится то, что хорошо диагностируется»).
Криминология – общетеоретическая наука о преступности. В цикле наук так называемого криминологического цикла (уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, оперативно-розыскное право, криминалистика и др.) она занимает то же место, что и теория государства и права применительно ко всем юридическим наукам.
Не имея четкого представления о реальных характеристиках преступлений и преступности, нельзя обеспечивать принятие адекватных и эффективных законов о борьбе с ними, разрабатывать результативные методы раскрытия преступлений, ресоциализации преступников.
Криминология изучает закономерности не только отдельных преступлений, индивидуального преступного поведения, но и преступности как массового явления. Отвечая на вопрос о причине совершения отдельного преступления конкретным человеком, она анализировала и другие вопросы: почему для решения своих проблем многие лица избирают преступный путь; что делать в целях недопущения этого; как преступность и преступники реагируют на изменения социальной ситуации, а также принимаемые в отношении них меры?
Длительное время практика борьбы с преступностью фактически основывалась на понимании преступления как проявления свободной воли преступника, которую называли «злой волей», и ограничивалась только применением установленных законом наказаний к виновным в совершении конкретных преступлений. Речь идет о так называемой классической школе права. Как отмечал в XIX в. профессор С. В. Познышев, «сторонники классического направления полагают, что наука уголовного права должна изучать преступление и наказание только как юридические явления, должна быть строго юридической наукой»[32].
В конце XVIII в. стали отчетливо различаться два направления классической школы: «метафизическое» и «утилитарное». Вместе с тем существовали и «смешанные» теории.
Наиболее яркими представителями «метафизического» направления были авторы кантианской и гегельянской школ. «Чистые» метафизики и метафизики историко-философского плана стремились, как писал С. В. Познышев, построить систему вечного естественного уголовного права, опираясь на идею абсолютной справедливости. Однако существовала третья разновидность данного направления, которая впоследствии привела к позитивизму, суть которого сводилась к тому, чтобы от попыток найти «естественное уголовное право» перейти к разработке положительного уголовного законодательства. Наиболее видные русские юристы-криминалисты в XIX–XX вв. были приверженцами классического позитивистского направления или социологического направления в праве[33].
Криминологическая обусловленность уголовного закона – это одно из проявлений его социальной обусловленности в широком смысле слова.
Существует точка зрения, что криминология производна от уголовного права и может рассматриваться как социология уголовного права. Однако такая позиция представляется необоснованной.
История криминологии как самостоятельной науки начинается в XIX в., в эпоху бурного развития наук об обществе, человеке, когда все большую популярность приобретало диалектико-материалистическое учение, в том числе о всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости всех явлений и процессов. Бурное развитие наук привело к расширению при менения естественнонаучных методов. Они стали проникать и в общественные науки.
Становление криминологии определили следующие четыре вида исследований: 1) антропологические; 2) статистические; 3) социально-экономические, социологические и др., в процессе которых анализировались многообразные факторы преступности и механизм их влияния; 4) социально-правовые.
Основоположником антропологических исследований был френолог Галль. Он разделил людей, совершающих преступления, на три категории и положил начало биологической классификации преступников[34]. Затем идею наличия врожденного преступника ярко обосновал итальянский профессор судебной медицины, бывший тюремным врачом Цезарь (или Чезаре) Ломброзо. «Преступниками рождаются», – настаивал Ломброзо в первых своих работах. Позднее он признавал, что прирожденный преступник – только один из типов, наряду с ним существуют другие, которые становятся преступниками под влиянием условий развития и жизни. В конце XIX – начале XX в. состоялся ряд международных конгрессов по уголовной антропологии, на которых многие участники критиковали теорию Ломброзо. Сам Ломброзо вел дискуссии, расширяя рамки исследования преступников и причин совершения преступлений. В его поздних работах значительное внимание уделялось различным факторам внешней среды, влиявшим на преступность, причем со временем он все большее значение стал придавать социальным факторам, хотя и не отказывался от своего учения о прирожденном преступнике[35].
Взгляды Ломброзо развивали его ученики, известные итальянские ученые Рафаэль Гарофало и Энрико Ферри, но они гораздо большее внимание уделяли социальным факторам преступности. По мнению Ферри, специфической чертой антропологической школы было то, что она отличала преступников от нормальных людей по их органическим и психическим чертам (par des anormalites organiques et psychiques), наследственным и приобретенным, считая преступников особой разновидностью человеческого рода (une classe speciale, une variete de l’espece humaine)[36].
Соответственно наказание рассматривалось в качестве защиты общества от этой «разновидности человеческого рода» – преступников.
Сторонники данного направления имелись во Франции, а также в других странах. В России антропологическому направлению были близки работы П. Н. Тарновской, Д. А. Чижа, в известной мере – Д. Дриля, Минцлова и ряда других авторов[37].
Статистические исследования данных о преступлениях развивали А. Хвостов в России, А. Герри во Франции, Э. Дюкпетьо в Бельгии и другие авторы. Наиболее ярко их значение для изучения закономерностей преступности продемонстрировал бельгийский математик и статистик А. Кетле. В 1836 г. вышло в свет сочинение А. Кетле «Человек и развитие его способностей, или Опыт общественной физики», в котором автор писал: «Во всем, что касается преступлений, числа повторяются с таким постоянством, что этого нельзя не заметить…»[38]
Позднее, во-первых, был совершен переход от изучения преступления или преступлений к преступности как массовому социальному явлению, обладающему статистическими закономерностями; во-вторых, показана взаимосвязь изменений статистических данных о преступности и изменений состояния общества.
При осуществлении социально-экономических, социологических исследований многие авторы показывали статистическую связь преступности с разными социальными факторами (Ферри, Гарофало, Марро, позднее – Ашшафенбург и др.). Особое место в ряду ранних исследований преступности с широких социологических позиций занимает изучение Ф. Энгельсом положения рабочего класса в Англии и соответственно преступности в рабочей среде и обществе в целом. В 1844–1845 гг. молодой Фридрих Энгельс написал книгу «Положение рабочего класса в Англии» с подзаголовком: «По собственным наблюдениям и достоверным источникам». Это было практически первое глубокое исследование не только факта влияния общественных условий на преступность, но и механизма такого влияния, социальной сущности преступности. «Неуважение к социальному порядку всего резче выражается в своем крайнем проявлении – в преступлении. Если причины, приводящие к деморализации рабочего, действуют сильнее, более концентрированным образом, чем обычно, то он так же неизбежно становится преступником, как вода переходит из жидкого состояния в газообразное при 80° по Реомюру», – писал Ф. Энгельс[39].
В указанной работе Ф. Энгельса важно то, что, во-первых, обосновывались не причины вообще негативных социальных отклонений в поведении людей, а причины именно преступности; во-вторых, рассматривалась закономерность преступности в условиях безраздельного господства частного интереса, свободной конкуренции, полного игнорирования интересов и прав людей наемного труда, не обладающих частной собственностью. Отсюда следовал вывод о первоочередности таких мер в борьбе с преступностью, как изменение общественных и политических учреждений, экономического уклада общества. В таких условиях роль уголовных наказаний в предупреждении преступлений и преступности носит ограниченный характер.
Более поздние исследования подтверждали тезис о производности преступности от принципов существования «большого общества». Так, американский социолог Эдвин М. Шур в 70-х годах XX в. писал, что «американское общество пропитано… предпочтением к ценностям, в такой мере определяемым индивидуализмом, конкуренцией и жаждой прибыли, что это создает побудительные стимулы к преступлениям, причем стимулы настолько интенсивные, что это выходит далеко за пределы рационального в современном комплексном обществе, даже если оно и является в своей основе капиталистическим»[40].
Развитие социально-правовых исследований, социологии права заставило обратить внимание на социальную основу преступлений, причины нарушения норм права, их учет при реагировании на преступления. Возникло учение об уголовной политике (Ф. Лист, М. В. Духовский, И. Я. Фойницкий, Н. С. Таганцев, М. П. Чубинский и др.).
Криминалисты стали больше интересоваться причинами преступлений и их предупреждением. Например, показательно, что профессор из Японии Кан Уэда связывает зарождение криминологических исследований в этой стране с реформой основ уголовной политики и тюремного дела[41].
Все это привело к качественно новым, криминологическим исследованиям, послужило возникновению и развитию криминологии.
Прокурор кассационного суда в Риме барон Р. Гарофало впервые назвал свою книгу «Криминология»[42]. Так криминология в XX в. окончательно определилась вне рамок уголовного права.
Важным, самостоятельным направлением уголовно-правовых исследований является социология уголовного права. Она, в частности, позволяет понять, как «работают» уголовно-правовые нормы в конкретных общественных условиях, как общие начала уголовного закона и уголовно-правовые принципы соотносятся с иными социальными и правовыми реалиями.
При анализе эффективности действия уголовно-правовой нормы выделяются: а) эффективность механизма ее действия и б) ее социальная эффективность.
Эффективность механизма действия указывает на то, удается ли вообще применять на практике данную норму, «работает» ли она. Бывает так, что запрещаемые деяния совершаются, но диспозиция уголовно-правовой нормы неточно отражает их признаки. Тогда соответствующая уголовно-правовая норма не применяется. Или диспозиция нормы сформулирована таким образом, что содержит признаки, не поддающиеся внешнему социальному контролю, в том числе и доказыванию. Ряд статей УК РФ, судя по данным уголовной статистики, не применяется. Однако они предусматривают ответственность за особо тяжкие преступления, и необходимость сохранения данных статей диктуется интересами общей и частной превенции преступлений. Например, в начале XXI в. ни разу не применялись ст. 248 «Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами», ст. 271 «Нарушение правил международных полетов», ряд статей о преступлениях против мира и безопасности человечества.