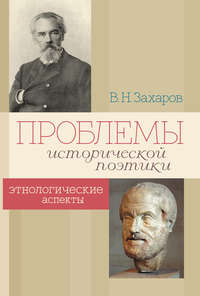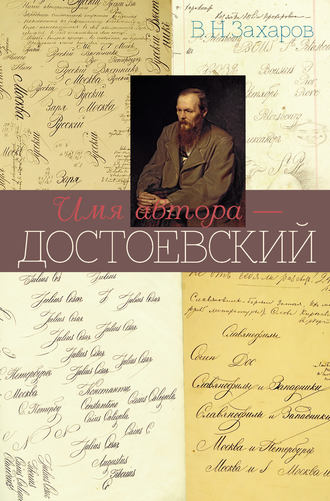
Полная версия
Имя автора – Достоевский
Под сомнение были поставлены оценки Белинского и Добролюбова, для которых Достоевский был «гуманным» талантом, а содержание его творчества определяла «гуманная мысль» (Б13 9; 550–564), «боль о человеке» (Добролюбов 7; 242). Н. К. Михайловский заменил формулу Белинского-Добролюбова на новую – «жестокий талант», упрекая Достоевского в «ненужной жестокости» и излишнем мучительстве своих страдающих героев, но в конечном счете – в отсутствии у Достоевского «определенного общественного идеала» (Михайловский 1957, 185–187).
Этой концепции предшествовала позиция некоторых критиков. Так, один из бывших нечаевцев, критик и публицист П. Н. Ткачев дал такую характерную оценку героев писателя: Достоевский назвал своих героев «бедными людьми», «униженными и оскорбленными», Добролюбов назвал их «забитыми людьми», Ткачев – «больными людьми», сделав эти слова заглавием своей статьи о «Бесах» (Ткачев 1873). Подобный подход к творчеству Достоевского находил самых неожиданных союзников: ныне забытый беллетрист-«барчук» Е. Марков написал критическую статью «Романист-психиатр» (Марков 1876), а психиатр В. Чиж, автор брошюры «Достоевский как психопатолог», поместил в свой воображаемый сумасшедший дом почти всех сколько-нибудь заметных героев романов Достоевского (Чиж, 1885). Эти ученые «благоглупости» были бы анекдотичны, если бы не навязчивое желание психиатра видеть в любом отступлении от ординарности психические заболевания вымышленных героев.
Либеральная и революционная интеллигенция не жаловала Достоевского. Достаточно было упрекнуть писателя в ренегатстве (революционер, ставший монархистом), назвать его мистиком и проповедником православия, автором антиреволюционных «Бесов», чтобы политическая репутация реакционера затмила для многих художественное значение творчества Достоевского. Этот обвинительный вердикт время от времени дополнялся, но в своей политической определенности он оставался неизменным.
Д. С. Мережковский проницательно нарек Достоевского «пророком русской революции», и эта емкая формула стала заглавием его известной статьи (Мережковский 1906). Предвосхищая софизмы другой статьи о другом великом русском писателе («Лев Толстой, как зеркало русской революции»), опубликованной анонимно в большевистской газете «Пролетарий» 11/24 сентября 1908 г. (Ленин 17, 206–213), Мережковский уточнял:
«Достоевский – пророк русской революции. Но как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его собственных пророчеств» (Мережковский 1906, 28).
И не случайно, что именно в «эпоху русских революций» возникла потребность определения социал-демократического отношения к Достоевскому. Прежде других его заявил в «Заметках о мещанстве» М. Горький, упрекнувший в 1905 г. Достоевского за проповедь смирения, а Л. Толстого за проповедь самосовершенствования и непротивления злу насилием (Горький, 23; 352–356). В 1908 г. будущий эксперт партии по вопросам культуры А. В. Луначарский упрекал русскую интеллигенцию за «восторги перед Пушкиным», за то, что некие кадетские «культурные силы», в числе прочего, «стремились найти своего пророка также и в резко антисоциалистическом Достоевском» (Луначарский 1; 392). От этой оценки рукой подать до известного ленинского эпитета 1914-го г. – «архискверный Достоевский» (Ленин 48; 295), которым, собственно, и исчерпываются прямые и личные отзывы Ленина о Достоевском.
В полной мере «синдром Достоевского» проявлен в горьковском отношении к великому русскому писателю. Протестуя против постановки Художественным театром вслед за «Братьями Карамазовыми» романа «Бесы», Горький объявляет роман «произведением еще более садическим и болезненным», называет его «пасквилем» и ставит в ряд «темных пятен человеконенавистничества на светлом фоне русской литературы» (Горький 24; 146). Свои претензии к Достоевскому Горький не без хитрого умысла излагал не столько от себя, сколько от имени своих безымянных критиков, но в личном изложении чужих мнений («мнения, высказанные литераторами, слагаются передо мною так»):
«Хотя Достоевский и реакционер; хотя он является одним из основоположников “зоологического национализма”, который ныне душит нас, хотя он – хулитель Грановского, Белинского и враг вообще “Запада”, трудами и духом которого мы живем по сей день; хотя он – ярый шовинист, антисемит, проповедник терпения и покорности, – но при всем этом его художественный талант так велик, что покрывает все его прегрешения против справедливости, выработанной лучшими вождями человечества с таким мучительным трудом» (Горький, 24, 151–152).
До такой степени поношения Достоевского позже не доходил никто из последователей Горького.
Горький не любил Достоевского, в чем сам не раз признавался: «невыносимая фигура для меня» (Архив Горького 12; 209), «не люблю этого человека» (Архив Горького 14; 411) и т. д.
Формулу Михайловского «жестокий талант» он заменил своей: «гений, но это злой гений наш» (Горький 24, 147); ср. ранний вариант этой формулы в письмах Горького И. Сургучеву 19–20 декабря 1911 г. (Архив Горького, 7; 102) и Л. Андрееву в конце 1911-в начале 1912 г. «злой наш гений Федор Достоевский» (Горький 1934, 154; ответное письмо Л. Андреева Горькому датировано 28 марта 1912 г.).
Если верить статьям горьковедов о Достоевском, аннотациям в библиографических указателях, то Горький всю жизнь боролся с «достоевщиной». Вопреки устоявшемуся мнению, Горький не причастен к появлению и пользованию этим презрительным словцом. То, что он отрицал в наследии Достоевского, Горький называл «карамазовщиной» – и только.
История сомнительного термина «достоевщина» пока не ясна. Он несет на себе печать времени, когда этот тип словообразования стал приемом политического огрубления и оглупления жизни: 1) хлестаковщина, маниловщина, ноздревщина, базаровщина, обломовщина и др.; 2) разинщина, пугачевщина, аракчеевщина, хлыстовщина, толстовщина, гапоновщина, зубатовщина, азефовщина, столыпинщина; позже – корниловщина, колчаковщина, деникинщина, махновщина и т. п.
Сейчас вряд ли можно с уверенностью сказать, кто придумал «достоевщину». Самое раннее употребление этого слова я обнаружил в дневнике А. Блока за 17 декабря 1911 г. Этим словом он отметил свой разговор до пяти часов утра с юристом и историком Д. Кузьминым-Караваевым:
«Злой, тяжелый, достоевщина» (Блок 8; 102).
Подчеркиваю, что запись сделана о себе – себе и своем собеседнике, и дальше слово не пошло.
Другое раннее употребление этого слова в весьма знаменательном контексте я нашел в письме журналиста и беллетриста А. М. Амфитеатрова М. Горькому от 17 января 1913 г. В этом письме дан отзыв А. Амфитеатрова о романе В. Винниченко «На весах жизни»:
«Преувеличений и желания стоять в романтической позе – тоже слишком много, равно как и достоевщины и андреевщины» (ЛН, 96; 425 (выделено мной. – В. З.)).
Не «везло» Винниченко на частные отзывы читателей. Именно о следующем его романе («Заветы отцов») Ленин писал И. Арманд в июне 1914 г., что это «архискверное подражание архискверному Достоевскому» (Ленин 48; 295).
Итак, Горький знал это слово, но не воспользовался им, в отличие от горьковедов. Уже в 1910-е гг. слово было на слуху, но в критический обиход не попадало – рождалось и умирало почти сразу, не выходя за страницы писем и дневников. Примечательно, что слово не вошло в обиход даже во время скандала вызванного протестом М. Горького осенью 1913 г. против постановки «Бесов» Московским художественным театром. Так, спорили о «карамазовщине», говорили даже о «мережковщине» (Тальников 1913, 209), но до «достоевщины» дело не дошло.
И все же, если нельзя определенно сказать, кто придумал слово достоевщина, то «заслуга» введения этого термина в критический оборот безусловно принадлежит А. В. Луначарскому – в 1920-е гг. он активно использовал это понятие в своих выступлениях и статьях о Достоевском, имевших нередко директивный характер.
В 1921 г. советская Россия широко отмечала первый литературный юбилей – столетие со дня рождения Достоевского. Во время этих торжеств появился ряд статей, которые уже своими заглавиями вносили диссонанс в общий хор похвальных слов: «Мучительный юбилей» (Никифоров 1921, 5–11), «Памяти великого врага» (Рожицын 1921), «Особое мнение» (Айхенвальд 1921, 1–2), «Как же относиться к Достоевскому?» (Фатов 1921, 10). Примечательны суждения известного литературного критика Ю. Айхенвальда, высланного вскоре из СССР по печально известному декрету 1922 г. Назвав юбилей «неуместным и незаконным чествованием», Ю. Айхенвальд категорично заявил «определенно и прямо, что нам, гражданам социалистического отечества, с Достоевским не по пути, что нашей республике не подобает славить годовщину его рождения и что необходимо сделать выбор между Достоевским и ею, республикой этой» (Айхенвальд 1921, 2). По иронии судьбы именно так некие государственные инстанции распорядились с самим Ю. Айхенвальдом.
Справедливости ради следует сказать, что это «особое мнение» было выражением давнего «синдрома Достоевского» у критика, писавшего еще в годы первой русской революции, что современность развивается «под черным знаком Достоевского», что «именно революцию, немолчную тревогу и смуту, душевный хаос считает он нашей первичной природой», что совпадают «стихия творца “Бесов”» и современное состояние человека (Айхенвальд 1907, 163), что «может быть, это – единственный писатель, которого хочется и можно ненавидеть, которого боишься, как приведения. Это – писатель-дьявол» (Там же, 169).
Впрочем, отдадим должное: и в «Особом мнении» можно найти проницательные и экспрессивные суждения критика о Достоевском.
Вот одно из них:
«Создатель “Бесов” – живой, одушевленный эпиграф к теперешней кровавой летописи; мы ныне как бы перечитываем, действенно и страдальчески перечитываем этот роман, претворившийся в действительность, мы его сызнова вместе с автором сочиняем; мы видим сон, исполнившийся наяву, и удивляемся ясновидению и предчувствиям болезненного сновидца. Как некий колдун, Достоевский наворожил России революцию» (Айхенвальд 1921, 1).
Конечно, и здесь критик не удержался – «заворожил». Ну а что до провокационного заявления в «особом мнении» – оно вернулось автору и ударило по его же судьбе.
До некоторых пор эти суждения о писателе («наш де Сад», «жестокий талант», «злой гений», «антисоциалистический», «архискверный Достоевский») были хотя и характерными, но частными мнениями, иногда выражали партийную, но еще не государственную позицию. Начиная с 1920-х гг. эти авторитетные «особые мнения» стали определять государственную политику в ее своеобразном и болезненном отношении к Достоевскому. Она выражалась в официальной точке зрения, формулированной в статьях первого и второго изданий Большой Советской Энциклопедии, в выступлениях и статьях А. Луначарского, в догматизации дореволюционных оценок Достоевского М. Горьким, в отношении к Достоевскому советских писателей «горьковского призыва», в учиненном на первом съезде советских писателей «суде над Достоевским», в оценках писателя в ходе различных политических кампаний 1930–1950-х гг. и т. п.
А. В. Луначарский относил Достоевского и Толстого к «чуждым нам классам» и утверждал, что «они являются враждебными, противными нам силами» (Луначарский, 8; 58).
В своей программной статье о Достоевском он отводил писателю лишь историческое значение:
«…если мы должны учиться по Достоевскому, то никак нам нельзя учиться у Достоевского. Нельзя сочувствовать его переживаниям, нельзя подражать его манере. Тот, кто поступает так, то есть кто учится у Достоевского, не может явиться пособником строительства, он – выразитель отсталой, разлагающейся общественной среды» (Луначарский, 1; 195).
Совет наркома просвещения звучит как предписание санитарного врача:
«Для нового человека, рожденного революцией и способствующего ее победе, пожалуй, почти неприлично не знать такого великана, как Достоевский, но было бы совсем стыдно и, так сказать, общественно негигиенично попасть под его влияние» (Там же).
В роли прокурора в суде над Достоевским на первом съезде советских писателей выступил М. Горький. Обозначив влияние русских писателей на литературу Запада, он связал Достоевского с Ницше, «идеи, коего легли в основание изуверской проповеди и практики фашизма», упрекнул за то, что в «Записках из подполья» автор дал «тип эгоцентриста, тип социального дегенерата», в других произведениях оправдывал «зверя в человеке», а в конце концов поставил ему в вину несколько вырванных из контекста фраз, заключив:
«Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности его талант равен, может быть, только Шекспиру. Но как личность, как “судью мира и людей” его очень легко представить в роли средневекового инквизитора» (Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934, 11).
Горький – художник, и его эстетический такт в отношении к слову знаменателен и красноречив. Признав в «Ответах журналисту» (1924) «мировоззрение» великого инквизитора «социалистическим» (Архив Горького 12; 114), Горький последовательно низводит Достоевского уже до «средневекового инквизитора» (Первый всесоюзный съезд советских писателей 1934, 11).
Обвинения Горького были поддержаны другими ораторами. Уже прошедший социалистическую «перековку» В. Шкловский заявил:
«Я сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества (? – В. З.), как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. Федора Михайловича Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника» (Там же, 154).
С еще большим подозрением задала свой риторический вопрос писательница В. Герасимова:
«Но разве не являются идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше, теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма?» (Там же, 262)
Дальше этой обозначенной враждебности к Достоевскому идти было уже некуда, но оказалось, и это не предел.
В январе 1935 г. один из «часовых» советской литературы Д. Заславский выступил в «Правде» против издания реакционного романа «Бесы» (Заславский 1935a).
Горький заступился за издательство «Academia», протестуя «против превращения легальной литературы в нелегальную» (Горький 1935).
То, как возразил ему Д. Заславский, предвещало уже не политический процесс, а ГУЛАГ: нужна бдительность в том, «что и как читает наша молодежь»; опасно «представлять классовому врагу трибуну печатного слова, хотя бы и под не весьма надежным конвоем “Литературной газеты”» (Заславский 1935 b).
А вот с какой политической истерией тот же автор задал тон кампании «против идеализации реакционных взглядов Достоевского» в газете «Культ ура и жизнь»:
«Достоевский – духовный отец двурушничества. Не удивительно, что реакционные стороны его творчества были одним из источников, питавших двурушников и предателей. Вся зарубежная реакция, все проповедники упадничества, разложения, политической мертвечины, все мистики разных толков в реакционных страницах Достоевского ищут и находят оправдание для своей подлой работы, предательства и провокации» (Заславский 1947).
Вывод:
«Нет ничего вреднее желания навести розовый глянец на реакционный облик Достоевского. Его мировоззрение глубоко враждебно марксизму-ленинизму, социалистической демократии, отличительной чертой которых является оптимизм, вера в человека-труженика, человека-мыслителя, человека-творца» (Там же).
Продолжая эту кампанию, В. В. Ермилов утверждал, что «Достоевский и в наши дни оказывается в авангарде реакции», что «он клеветал на все передовое, честное, революционное», и заключал: «…в целом влияние Достоевского вредно для развития мировой прогрессивной литературы. Это влияние принижает человека, уводит от борьбы за светлое будущее человечества, за победу человеческого разума, человеческой воли к свободе и счастью» (Ермилов 1948, 4, 13, 18).
И это идеологическое шаманство не пустые слова. За ними следовали «оргвыводы» в издательской практике и научных исследованиях: с 1935 по 1955 г. не переиздавались многие произведения Достоевского, среди переиздававшихся особой благосклонностью пользовались удостоенные внимания Белинского и Добролюбова «Бедные люди» и «Униженные и Оскорбленные», с 1949 по 1955 г. из научных публикаций исчезли специальные исследования о Достоевском – как результат идеологической проработки монографий А. Долинина и В. Кирпотина, некстати вышедших в 1947 г.
Эти идеологические установки долгое время определяли условия изучения творчества Достоевского (обстоятельный анализ политического отношения советской власти к Достоевскому дан в кн.: Seduro 1957. Seduro, 1975). И хотя несколько поколений советских литературоведов потратили немало усилий, чтобы расчистить эти идеологические завалы на путях изучения Достоевского, задним числом все же следует признать правоту тех, кто занимался политическим надзором за нашей литературой и литературоведением: Достоевский на самом деле несовместим с марксизмом-ленинизмом, он антисоциалистичен и тем более антикоммунистичен, а «синдром Достоевского» – лишь следствие болезненного отторжения, выталкивания писателя из советской культуры и «массового сознания».
Причины этого очевидны: социальная практика строительства «нового общества» в нашей стране была несовместима с христианской этикой и идеями Достоевского. Иван Карамазов отказывался от своего билета в «светлое будущее» и «мировой гармонии», если в основании этого здания всеобщего счастья упадет хотя бы одна «слезинка» замученного ребенка, а за наш политический эксперимент мы заплатили не только слезами, но и кровью многих миллионов людей. Как в этой ситуации относиться к Достоевскому? Признать его правоту? Легче объявить это «абстрактным гуманизмом», а самого автора – «злым гением», сомнительным классиком, «архискверным Достоевским». Но столь же очевидно, что ни отторгнуть, ни тем более похоронить Достоевского в нашей культуре не удалось, как, впрочем, до сих пор не удается и исцелиться от «синдрома Достоевского».
Формы проявления этого «синдрома» разнообразны.
Это и рецидивы прежней школьной концепции творчества Достоевского, согласно которой писатель – всего лишь защитник «бедных людей», «униженных и оскорбленных», обличавший «мерзости жизни».
Это и многочисленные, не преходящие и сегодня рассуждения о «достоевщине». Чего стоит, например, аллилуйя «достоевщине», вдохновенно пропетая Ю. Ф. Карякиным:
«Достоевский и сегодня помогает будить их совесть, но Достоевский же содействует появлению истериков и ренегатов: в нем есть нечто такое, что притупляет социальную остроту его произведений, что не возвышает, а принижает человека и что является ныне, как никогда, опасным, – “достоевщина”. <…> Его метко называли то жестоким талантом, то злым гением. Вера в человека и полнейшее его развенчание; бунт и смирение; стремление немедленно, сию секунду помочь чем-то народу, а вместо этого – откладывание помощи до второго пришествия Христа; использование истины социализма (т. е. прежде всего его критики капиталистического строя) и одновременно – повторение буржуазной и царистской лжи о социализме как “повсеместном грабеже”; благородные призывы к братству всех народов и отвратительная проповедь шовинизма, противопоставление России, Востока – Западу, плюс религиозная нетерпимость; христианство – то как антитеза социализму, то как его осуществление (своеобразный христианский социализм); мечта о достижении рая на земле и апокалипсические видения; церковник и атеист; человек “со святым и преступным ликом” (Т. Манн); “натура о двух безднах” – таков действительный Достоевский. Правда и ложь здесь не механически сосуществуют, а именно спутаны, слиты, сплавлены» (Карякин 1963, 40–41).
А вот и вывод:
«“Достоевщина” – это не само внимание к миру “двойника”, “ подпольного человека”, “ мерзавца”. Дело здесь не в объекте изучения, а в его понимании, в его оценке. “Достоевщина” – это культ страдания, наслаждение им, это юродство, лживая мысль о том, что все люди – “из подполья”, что все они, если покопаться, – “дрянь”, это – смакование уродства и подлости, это – больная совесть человека, утешающегося тем, что якобы вообще нет людей с чистой совестью, это – ковыряние ран и посыпание их солью вместо излечения, это – болезненная тяга к изображению больных сторон жизни. “Достоевщина” у Достоевского проявляется так же, как психическая болезнь у психиатра» (Карякин 1963, 40–41).
Конечно, позже Ю. Ф. Карякин остерегся бы этих слов и вряд ли написал, как тогда: «Разве “Майн кампф” не вариант записок “человека из подполья”? Разве Освенцим не реализация его идеалов?» (Карякин 1963, 34) – хотя свою книгу «Достоевский и канун XXI века» он начал с признания, что работа над этой статьей стала «одним из самых счастливых воспоминаний» (Карякин 1989, 40–41; сюжет повторен в мемуарной книге автора: Карякин 2007, 48; ср. 46–48), а по поводу «достоевщины» сказал, что испытывает один из «пунктов беспокойства», «стыднее всех, и даже (? – В. З.) до сих пор» (Там же), но «беспокойство» – явно не то слово. Стоит лишь добавить, что эта незаурядная журналистская статья вскоре вошла в «историю» – стала VIII главой в III томе академической «Истории философии в СССР» (Карякин 1968, 342–362), что, впрочем, характеризовало уровень этого труда, но не изучение философии Достоевского.
Это и попытка Б. И. Бурсова придать оценочному термину приличный вид:
«“Достоевщина” стала у нас почти бранным словом, а между тем какой же это Достоевский без “достоевщины”?» (Бурсов 1979, 21).
Это и его скандальное провозглашение Достоевского «опасным гением», и «страховская» концепция его книги «Личность Достоевского» (1969–1973).
Внедренный в политическое сознание читателей «синдром Достоевского» вызвал известное «письмо полковников» в ЦК КПСС, задержал выход ряда томов и изменил план Полного собрания сочинений писателя.
Примерам «несть числа», и любой из приведенных и неприведенных – в конечном счете случаен[2].
Конечно, «синдром Достоевского» – по преимуществу политическая болезнь нашего общества, но не следует упрощать проблему и сводить ее только к политическим аспектам. Гораздо интереснее эстетическое выражение нелюбви к Достоевскому, которая значительно глубже укоренилась в современном и российском, и западном общественном сознании. К тому же это редко «головная» болезнь. Эстетическое неприятие изначально для многих (если не всех) хулителей гения, и их политические наветы – как правило, производное нелюбви и ее «оправдание».
Эстетическое неприятие Достоевского зачастую имеет и ярко выраженный гносеологический аспект: не нравится, потому что не понимают (впрочем, субъективно это может выглядеть и так: не нравится то, что не понимают).
Вот, к примеру, нетипичные «головные» и многословные «Тезисы против Достоевского» Г. Ландау. Их немного, хотя комментарий к ним пространен. Первый тезис: «Судьба человека и человечества, пребывающего во зле и страданиях», – основополагающая тема творчества Достоевского, но «не единственная, не исчерпывающая тема человеческой судьбы» (Ландау 1932; 145, 14 6). Второй: идея творчества чужда Достоевскому (Там же, 149; ср.: 146–150). Третий: «Максимализм Достоевского одинаково отрицает и цивилизацию, и культуру» (Там же, 153). Следующий вердикт: «Он Бога не видит; Бог для него смутный вывод из смутной максимальной требовательности» (Там же, 159). Далее: Достоевский «не видит и самой полноты человеческого зла и страданий» (Там же, 153); «почувствовав неизгладимость страданий и зла – Достоевский не почувствовал неизгладимости радости и добра, их самозаконности» (Там же, 163). Вывод: «Судьба человека, его трагедия и поиски разрешения остались искаженными в творчестве Достоевского. Гипнотизирующая сила его взвинченного и одностороннего гения превращает эту искаженность в великую духовную опасность» (Там же). На этом сомнительном постулате Г. Ландау поставил точку.
Для того чтобы так опровергать Достоевского, нужно не читать или не воспринимать прочитанное. За этими претензиями нет Достоевского, его слова и творчества, а есть «бой» критика «с собственной тенью» – полемическое опровержение собственных представлений. Разве Достоевский пристрастен лишь к злу и страданиям? чужд радости и добру? исказил «судьбу человека, его трагедию»? чужд идее творчества? антикультурен? Чтобы раскрыть несостоятельность этих безапелляционных суждений, достаточно лишь изменить их тон с утвердительного на вопросительный.
Впрочем, беспочвенность голословных обвинений Достоевского иногда пытаются прикрыть риторическими вопросами, как это сделал в свое время Ю. Айхенвальд:
«Разве можно так нецеломудренно выворачивать чью бы то ни было душу? И в том, кто, не щадя стыда и наготы своего брата, осмеливается на это, разве можно провести границу между его любовью и его злобой? И вообще, простит ли человечество Достоевскому то, что он так осквернил человека?..» (Айхенвальд 1907, 170).