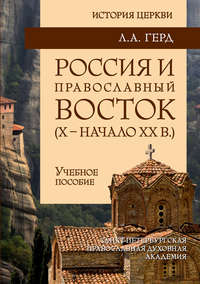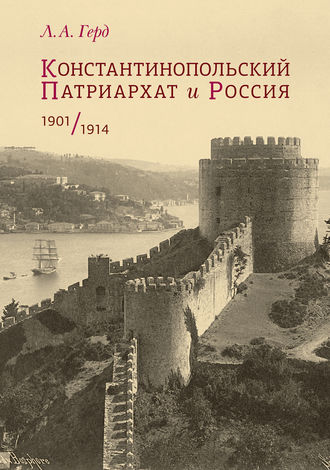
Полная версия
Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914
В целом русская политика 1900-1910-х гг. на Ближнем Востоке вообще и на Балканах в частности характеризуется пассивностью и несамостоятельностью. Связанное соглашениями с Австро-Венгрией, занятое русско-японской войной и революцией, в период до 1908 г. русское правительство тщательно избегало вмешательства в конфликты и прикладывало все усилия к сохранению status quo на Балканах. В 1909–1912 гг., продолжая линию на сохранение неприкосновенности Османской империи, которая доминировала после 1878 г., и не пускаясь в рискованные военные авантюры, Россия, тем не менее, «повернулась лицом к Ближнему Востоку»: МИД приступил к созданию блока балканских государств. Действия дипломатии в этом направлении увенчались успехом, и к 1914 г. Россия, как и другие великие державы, оказалась перед новой картой Балканского полуострова. Однако все политические комбинации, предпринимавшиеся русским правительством на Балканах, служили одной цели: подготовке почвы для решения восточного вопроса. Первостепенной для русской политики начала XX в. оставалась проблема проливов и Константинополя. От дипломатических и военных действий в ходе Первой мировой войны зависело окончательное решение восточного вопроса.
Византийское наследие в русской общественно-политической мысли начала XX в.
Внешнеполитическая концепция России на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в. основывалась на одной общей идее – объединения православного мира во главе с Россией. Эта неовизантийская политическая идеология, теория Третьего Рима в условиях Нового времени, формируется во второй половине XVII в., когда впервые встал вопрос о выходе России к Черному морю. После азовского похода Петра I и особенно победоносных войн Екатерины второй половины XVIII в. целью устремлений России в южном направлении стало овладение Константинополем и утверждение на берегах проливов Босфора и Дарданелл. Владение проливами было необходимо России как для безопасности южных рубежей страны, так и для гарантии свободной торговли в Средиземноморском бассейне. Путем к достижению этой цели было преобладание России на Балканском полуострове.
Военно-политические задачи нашли благоприятную почву в идеологии. Для России это была старая идея восстановления Византийского царства, господствующего над всем православным миром, над всей ойкуменой; только центром этого мира теперь становилась Российская империя и ее столица[87]. Концепция Третьего Рима, начало которой было положено иноком псковского Елеазарова монастыря Филофеем в XVI в. и имевшая поначалу чисто эсхатологический характер, гласила, что после падения второго Рима-Константинополя в мире остается только одно православное царство – Московское. Россия – единственная хранительница истинной православной веры, а ее столица призвана стать Третьим Римом, центром христианской ойкумены. На этой идее основывалась вся русская философия истории до середины XX в[88]. Провозглашение московского патриаршества в 1589 г., в котором русские усматривали непосредственное преемство с Византией, и царское коронование Ивана Грозного, признанное в 1560 г. восточными патриархами, явились актами, утверждавшими за Московской Русью авторитет прямой наследницы Византийской империи. Дальнейшему развитию этих взглядов способствовали постоянные поездки представителей восточного духовенства за материальной помощью в Россию в XVI и особенно в XVII в. С XVII в. Россия рассматривалась православными христианами Османской империи как их будущая освободительница от турецкого ига; более того, некоторые иерархи добровольно помогали русскому правительству, доставляя сведения военно-политического характера (самым известным из них был иерусалимский патриарх Досифей)[89].
Мечты об освобождении силой русского оружия, бытовавшие на Востоке поначалу только в пророчествах и народных песнях, с XVIII в. обрели практическое воплощение в совместных действиях русской армии и флота во время средиземноморских кампаний. Триумфом ближневосточной политики России были победоносные войны второй половины XVIII в., в результате которых она не только приобрела большие территории по Черному морю, но и заключила Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г., согласно которому впервые получила официальное право покровительства православному населению Османской империи, то есть право открыто вмешиваться во внутренние дела Турции. Греческий проект Екатерины II был первым полумифическим-полуреальным планом восстановления Византийского православного царства[90].
В соответствии с заявкой России на восстановление Византии и освобождение христиан Османской империи, главной опорой ее ближневосточной политики являлась православная церковь. Поддержка православия на Востоке стало знаменем русской политики в этом регионе вплоть до начала XX в., а опора на греческую и славянскую иерархию и общая вера с широкими слоями многонационального православного населения Османской империи являлась идеологическим оружием этой политики, – оружием, которого не было ни у одной из конкурировавших с Россией европейских держав. Поэтому ближневосточная политика Российской империи вплоть до революции 1917 г. носила в значительной мере религиозный по форме характер, и церковная составляющая была ее стержнем. Начала православия, самодержавия и народности, провозглашенные в качестве официальной доктрины Российской империи в первой половине XIX в., в полной мере были применимы к ближневосточной политике страны с XVIII в., с той поправкой, что понятие народности заменялось понятием всепра-вославного единства единоверных народов.
Успех этой политической концепции был основан на организации жизни немусульманского населения Османской империи. Еще со времен османских завоеваний на Ближнем Востоке все немусульманские народы объединялись в миллеты – административные единицы по этническому признаку и, прежде всего, принципу вероисповедания. Каждый миллет пользовался внутренним самоуправлением. Православное население входило в так называемый Рум миллети, или греческую (ромейскую) общину, подчиненную Константинопольскому патриарху. Централизация церковного управления была выгодна туркам и совпадала с интересами греков; вследствие этого славянское и арабское православное население империи постепенно эллинизировалось. Патриарх стал этнархом, вождем своего народа, он сосредоточил в своих руках власть как духовную, так и гражданскую, и тем самым было ликвидировано двоевластие императора и патриарха, имевшее место в Византии. Православная община жила по законам византийского права, а патриарх отвечал перед Портой за законопослушность своей паствы. Таким образом, Вселенский патриархат в Османской империи был своего рода полуавтономным «государством в государстве»[91]. С ростом национального самосознания и подъемом освободительных движений Балканского полуострова понятия нация и вероисповедание были идентичны, вследствие чего национально-политические и национально-религиозные вопросы не разделялись. Следует отметить, что понятие народного, которое употребляли русские политики, отличалось от европейского понятия национального, воспринятого балканскими народами в XIX в. Церковь становилась знаменем и орудием политической борьбы, в которой духовенство принимало самое деятельное участие. Таким образом, в задачи русской политики входило поддерживать православие в лице его духовенства и народа и создавать себе почву для будущего формирования, по мере ослабления и распада Турции, союза восточно-христианских народов под предводительством России и ее императора.
Эта политическая схема уже в конце XVIII – начале XIX в. встретила противодействие со стороны других европейских держав, имевших свои экономические и политические интересы в восточном Средиземноморье, – Англии, Франции и Австрии. С Австрией, которая предъявляла непосредственные территориальные претензии на западную часть Балканского полуострова, пыталась договориться еще Екатерина II в ходе переговоров по греческому проекту В начале XIX в. противостояние держав приобрело четкие формы: задачей европейских правительств было не допустить Россию до преобладания на Балканах и в проливах, которые были торговым и стратегическим путем на Восток. Чтобы обеспечить себе тыл на Балканах, державы использовали подъем национальных движений христианских народов для того, чтобы разъединить их и ориентировать не в сторону России, а в сторону Запада. Для этого использовались разные методы – материальная, военная помощь, деятельность политических агентов, а также католический и протестантский прозелитизм, имевший к тому времени богатый опыт на территории Турции.
К началу XIX в., казалось, все было подготовлено для последующего постепенного наступательного продвижения России в сторону Константинополя. Именно в России получила начало и финансовую поддержку греческая революционная организация Филики Этерия. В это время русская политика на Ближнем Востоке совершила крупную ошибку: Александр I, верный идеям Священного союза, не поддержал греческого восстания 1821 г. и тем самым отвратил симпатии греков от России. Этого ждала британская политика, которая, напротив, оказала самую деятельную помощь греческой революции. Молодое греческое государство было в значительной степени ориентированным на западные державы, и его правительство, особенно во второй половине XIX в., придерживалось профранцузского, а затем пробританского курса[92]. При Николае I восточная политика вышла из состояния стагнации, однако излишнее доверие союзам с европейскими правительствами и здесь сыграло свою отрицательную роль.
Крымская война 1853–1856 гг., поводом к которой опять-таки послужила защита интересов православия на Ближнем Востоке, явилась переломным событием в истории восточного вопроса. Поражение в Севастополе было во многом и крушением великодержавных амбиций России на Ближнем Востоке. После 1856 г. Россия, лишенная своего черноморского флота, в значительной степени потеряла и авторитет среди христиан Османской империи. Десятилетия после Крымской войны были для России временем восстановления утраченных позиций. Деятельность дипломатии, в том числе посла в Константинополе Н. П. Игнатьева, подготовила почву для будущих попыток решения восточного вопроса военным путем. Победоносная русско-турецкая война 1877–1878 гг. привела к созданию полунезависимого Болгарского княжества, которое должно было стать опорой русской политики на Балканах. Вместе с тем Берлинский конгресс 1878 г. показал со всей очевидностью, что Россия не имеет возможности воспользоваться плодами своих побед и проводить на Ближнем Востоке самостоятельную политику; западные державы не допустили создания сильного большого южнославянского государства под русской эгидой. В этом в очередной раз сыграла свою негативную роль непоследовательность русской внешней политики и старание дипломатии угодить западным державам.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Восточному вопросу и проливам в политике великих держав посвящена большая литература. См.: Успенский Ф. Как возник и развивался в России Восточный вопрос. СПб., 1887; Дранов Б. Л. Черноморские проливы. М., 1948; Jelavich В. The Ottoman Empire, the Great Powers and the Straits Question, 1870–1887. Bloomington; London, 1973; Idem. St. Petersburg and Moscow: Tsarist and Soviet Foreign Policy 1814–1974. Bloomington; London, 1974; Sumner В. H. Tsardom and Imperialism in the Far East and Middle East, 1880–1914. London, s. a.; Saul N. E. Russia and the Mediterranean. Chicago, 1970; Киняпина H. С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце XIX в. М., 1994; Россия и черноморские проливы (XVIII–XX столетия). М., 1999; Жуков К. А. Некоторые узловые моменты русско-турецких отношений в конце XVII – начале XX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2009. Сер. 13. Вып. 2. С. 10–22; Лунева Ю. В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой войны (1907–1914). М., 2010; и др.
2
Концепция византийского содружества государств, образующих православную ойкумену, разработана в классической монографии по этому вопросу: Obolensky D. The Byzantine commonwealth. Eastern Europe. 500-1453. London, 1971; рус. пер.: Оболенский Д. Византийское содружество наций. М., 1998. Идеальная схема, построенная Оболенским, в последнее время пересматривается. См. исследование о византийской миссионерской политике: Иванов С. Л. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из варвара христианина? М., 2003.
3
Петрунина О. Е. Греческая нация и государство в XVIII–XX вв. М., 2010. С. 371–518.
4
См.: Arnakis G. G. The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism // The Balkans in Transition / Ed. by В. and Ch. lelavich. Berkley, 1963. P. 134–135; Clogg R. The Greek Millet in the Ottoman Empire I I Christians and lews in the Ottoman Empire: the Functioning of a plural Society. Vol. 1. The Central Lands / Ed. by B. Braude, B. Lewis. N. Y., 1982. P. 185–207; Kitromilides P. M. «Imagined Communities» and the Origins of the National Question in the Balkans I I European Historical Quarterly. 1989. Vol. 19. № 2; Kraft E. Von der Rum Milletizur Nationalkirche in Sudesteuropa im Zeitalter des Nationalismus // lahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2003. Bd. 51. Hf. 3 S. 392–396; Макарова И. Ф. Болгары и Танзимат. М., 2010.
5
Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе (ее история в XVI–XIX веках, критическая оценка и будущие задачи). Историко-юридические очерки. М., 1896. Т. 1–2.
6
Герд Л. А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке (1878–1898). М., 2006.
7
Лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в. М., 2006; см. также статьи Р. Б. Бутовой, И. Ю. Смирновой на страницах журнала «Палестинский сборник».
8
Хвостов В. М. История дипломатии. Т. II. М., 1963. С. 638–640; Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX в. М., 1978. С. 291–293; Бондаревский Г. А. Багдадская железная дорога и проникновение германского империализма на Ближний Восток (1888–1903). Ташкент, 1955; Ерусалимский А. С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце XIX в. М., 1948; Силин А. С. Экспансия германского империализма на Ближнем Востоке. М., 1976. С. 178–188.
9
Mülinen G., von. Die lateinische Kirche im Türkischen Reiche. Berlin, 1901; Ippen Th. A. Das religiöse Protectorat Oesterreich-Ungarns in der Turkey // Die Kultur. 1902. Bd. III. S. 298–316; Das Kulturprotektorat Oesterreich-Ungarns in der Türken // Fremdblatt. Feb. 2,1913.
10
В конце XIX в. этническая карта Македонии неоднократно становилась предметом российских научных экспедиций. Если в 1880-е годы большинство славян называли себя просто райями, т. е. подданными султана, то спустя одно-два десятилетия их национальная принадлежность определялась церковными границами: экзархисты однозначно идентифицировали себя с болгарами, патриархисты не ставили национальный вопрос на первый план.
11
Записка кн. Г. Трубецкого о задачах России в мировой войне. 10 января 1917 г. // АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 4313. Л. 11. В это время Г. Н. Трубецкой занимал пост вицедиректора Первого департамента МИД.
12
Там же.
13
Литература по предыстории и провозглашению болгарской схизмы обширна. См.: Маркова 3. Българската Екзархия. 1870–1879. София, 1989; Кирил, патр. Български. Граф Н. П. Игнатиев и Българският църковен въпрос. Изследване и документи. София, 1958; Бонева В. Българското църковно-национално движение 1856–1870. София, 2010. Русское правительство, официально уклонившееся от высказывания мнения по вопросу о схизме, фактически проигнорировало собор 1872 г. и продолжало считать их православными; каноническое общение между церквами было, однако, прервано. Дальнейшее его отношение к греко-болгарскому вопросу зависело от политических обстоятельств. До войны 1877–1878 гг. оно симпатизировало болгарам, начиная с 1880-х гг. – сербам и грекам. При этом факт существования схизмы продолжал быть большой помехой для русской политики на Балканах. Об отношении России к схизме после 1878 г. и попытках ее преодоления см.: Герд А. А. Константинополь и Петербург. С. 225–308, а также соответствующую главу настоящего исследования, где указана библиография вопроса.
14
Освобождение Болгарии от турецкого ига. М., 1964; Хвостов В. М. История дипломатии. Т. II. С. 117–133; После Сан-Стефано. Записки графа Н. П. Игнатьева. Пг., 1916; Νάλτας Χρ.Ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καὶ ὁ Ἑλληνισμός. Θεσσαλονίκη, 1953; Batowsky H. A Centenary: two partitions of European Turkey. San Stefano and Berlin – a comparison // Balkan Studies. 1978. Vol. 19/2. P. 227–237.
15
Кирил, патр. Български. Българската екзархия в Одринско и Македония след освободителната война 1877–1878. Т. 1. 1878–1885. Кн. 2. София, 1970; Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944. Т. 3. Освободителното движение след Илинденско-Преображенското възстание. София, 1997; Лабаури Д. О. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1894–1908 гг. София, 2008 (библиография с. 218–238) и др. О борьбе греков за Македонию и Фракию см.: Βακαλόπουλος Κ. Ἱστορία του Βορείου Ελληνισμού στη Θράκη. Θεσσαλονίκη, 1990; Трайкова В. Гръцката пропаганда в Одринска Тракия // Исторически преглед. Т. XLIX. Кн. 3. С. 20–45; Мусинска С. Училищата на гръцката пропаганда в Одринска Тракия 1878–1912 г. // История. 2007. № 5–6. С. 57–66. См. также литературу в соответствующей главе. 9 До 1896 г. она называлась Македонская революционная организация
16
До 1896 г. она называлась Македонская революционная организация, до 1902 г. Болгарские македонско-одринские революционные комитеты, в 1902–1905 гг. – Тайная македонско-одринская революционная организация, с 1905 г. Внутренняя македонско-одринская революционная организация (ВМОРО).
17
Константинова Ю. Балканската политика на Гърция в края на XIX и началото на XX век. Велико Търново, 2010. С. 293.
18
Dakin D. The Greek struggle in Macedonia. 1897–1913. Thessaloniki, 1966. P. 122–125.
19
Деятельность митрополита Германа отчасти нашла отражение в его мемуарах: Καραβαγγέλης Γ. Ο Μακεδονικόςαγών. Απομνημονεύματα. Θεσσαλονίκη, 1959.
20
Dakin D. The Greek struggle in Macedonia. P. 144–145.
21
Московские ведомости. 21 августа 1904 г. № 230.
22
Petrus. Новый фазис македонского вопроса // Московские ведомости. 8(21) декабря 1904 г. № 339.
23
ΝοτάρηςΙ. ΠαύλοςΜελάς, βιογραφία. Θεσσαλονίκη, 1955; ΜελάΝ. ΠαύλοςΜελάς. Αθήνα, 1999.
24
Ibid. Р. 214–220.
25
Битоски К. Деjноста на Пелагониската митрополиjа. С. 287. См. также: Петрунина О. Е. Греческая нация и государство в XVIII–XX вв. М., 2010. С. 433–443.
26
Вучо Н. Привредна историjа Србиjе. Београд, 1955; Павлюченко О. Б. Россия и Сербия 1888–1903. Киев, 1987; ВоjводиħМ. Србиjа у међународним односима краjем XIX и почетком ХХ века. Београд, 1988; ЕкмечиħМ. Стварање Jугославиjе 1790–1918. Београд, 1989;
ПоповиħН. Б. Србиjа и царска Русиjа. Београд, 2007.
27
Невозможность захвата проливов была наглядно доказана провалом проекта А. И. Нелидова в 1896 г. См.: Хвостов В. Проект захвата Босфора в 1896 г. // Красный архив. 1931. Т. 4–5 (47–48). С. 64–67; Он же. Проблема захвата Босфора // Историк-марксист. 1930. Т. 20. С. 100–129; История дипломатии. Т. II. С. 342–343; Восточный вопрос во внешней политике России. С. 270–271; Киняпина Н. С. Балканы и проливы. С. 186–187.
28
Восточный вопрос во внешней политике России. С. 290–291.
29
Helmreich Е. С., Black С. Е. The Russo-Bulgarian military convention of 1902 // Journal of Modern history. Vol. IX. Dec. 1937. P. 471–482.
30
Хвостов В. M. История дипломатии. Т. II. С. 632–635; Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия 1878–1903. М., 1996.
31
Восточный вопрос во внешней политике России. С. 290–294.
32
Силянов X. Освободителните борби на Македония. Т. 1. Илинденското възстание. София, 1933. У российского МИДа не было единства в отношении к восстанию: русский посол в Константинополе И. А. Зиновьев отстаивал суровое его подавление, в то время как агент в Софии был на стороне повстанцев. См.: Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., б. г. С. 54.
33
О Мюрцштегской программе и действиях по ее осуществлению см.: Diplomatische Aktenstücke über die Reformazion in Mazedonien. Rotbuch I. 1902–1906. Wien, 1906 (издание документов); Ruchti]. Die Reformation Österreich-Ungarns und Russlands in Mazedonien 1903–1908. Die Durchführung der Reformen. Wien, 1969; Попов P. Австро-Унгария и pe-формите в Европейска Турция 1903–1908. София, 1974; Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944. Т. 3. София, 1997. С. 8–25; Dakin D. The Greek Struggle in Macedonia. 1897–1913. P. 112–116.
34
Dakin D The Greek Struggle in Macedonia. P. 112–113.
35
Ruchti J. Die Reformation Österreich-Ungarns und Russlands in Mazedonien 1903–1908. S. 49.
36
См. статью «Наша балканская политика» // Московские ведомости. 4 (17) ноября 1904 г. № 305.
37
Dakin D. The Greek Struggle in Macedonia. P. 243.
38
Ibid. P. 244–249.
39
Ibid. P. 288–294.
40
Ibid. Р. 328–331.
41
Галкин И. С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской Турции. 1905–1912 г. М., 1960. С. 214.
42
Dakin D. The Greek Struggle in Macedonia. P. 345.
43
Восточный вопрос во внешней политике. С. 301.
44
Хвостов В. М. История дипломатии. Т. II. С. 640–642.
45
Шпилькова В. И. Отношение западноевропейских держав к Младотурецкой революции // Новая и новейшая история. 1971. № 3. С. 37.
46
Галкин И. С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской Турции. С. 215.
47
Восточный вопрос во внешней политике России. С. 302–308; Хвостов В. М. История дипломатии. Т. II. С. 606–617, 642–644; Бестужев И. В. Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906–1910. М., 1961. С. 30–33; Langer W. L. Russia, the Straits question and the European Powers, 1904–1908 // The English Historical Review. Jan. 1929. Vol. XLIV. № 173. P. 59–85.
48
Передовая статья «Македонская зарница» // Московские ведомости. 2 (15) февраля 1908 г. № 28.
49