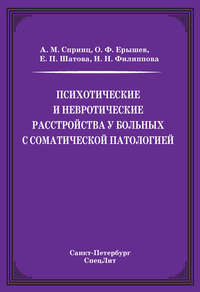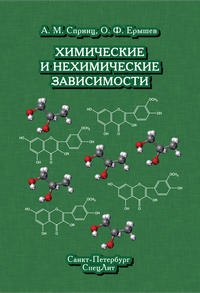Полная версия
Личность и болезнь в творчестве гениев
Помимо описанных выше расстройств в состоянии писателя появились и другие болезненные признаки. О них мы можем судить также по произведениям, созданным после 1843 года, а писать он продолжал много (письма, статьи, второй том «Мертвых душ», позднее сожженный, и др.), хотя творчество его резко изменилось. В 1846 году стали печататься печально знаменитые «Выбранные места из переписки с друзьями», прочтя которые В. Г. Белинский написал Гоголю свое известное «Письмо». Надо сказать, что это произведение вызвало много толков, читатели удивлялись и осуждали Гоголя – поражались тому, что человек, сочинивший «Ревизора» и «Мертвые души», мог «так низко пасть». Дело в том, что в «Выбранных местах…» он оправдывал существующий порядок, в том числе крепостное право, рекомендовал помещикам «отеческую расправу» – порку и т. д. Позднее он писал, что считает это произведение своей «единственной стоящей книгой». Книга поражает не только содержанием, но и формой. Вот, например, выдержка из VI письма «О помощи бедным»: «Помогать надо прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или смерть, похитившая единственную подпору, словом – всякое лишение внезапное, где вдруг явится человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Тогда несите помощь».
Вообще-то на психиатрическом языке это называется бесплодным мудрствованием, или резонерством. Это вариант нарушения мышления, другого объяснения здесь быть не может. Произведение «Выбранные места…» свидетельствует о психическом расстройстве автора. Появление книги, связанное с непреодолимым желанием поучать, обусловлено болезненными мыслями писателя о своем высоком предназначении, уверенностью, что его устами говорит Бог. В книге еще много несуразных мест, доказывающих нездоровье автора. Гоголь «сверхкритически» относится к своему творчеству, радуется, что его ругают в печати и в разговорах за «Мертвые души». Он пишет: «Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на „Мертвые души“. Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных… кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко наружу, что поневоле ее увидишь». Вот как. Оказывается, злобная критика – хорошее творческое вспоможение даже для гениального писателя. Вообще при чтении этой книги создается впечатление, что автору все равно, кому и что проповедовать, лишь бы проповедовать. Так, проблеме просвещения он уделяет полторы страницы, но зато переводу В. А. Жуковским поэмы Гомера „Одиссея“ он отводит очень большое место, ставя ее чуть ли не рядом с Библией (и это будучи очень религиозным человеком): «Дворянин, мещанин, купец, грамотей и не грамотей, рядовой солдат, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно если примем в соображение то, что „Одиссея“ есть и самое нравственное произведение…». Заявление более чем странное, если учесть, что в то время вряд ли кто-нибудь, кроме крайне заинтересованных лиц (поэты, писатели, критики, ну и досужие книголюбы), стал бы читать громоздкий, хотя и талантливый перевод Жуковского, особенно нелепо это выглядит в отношении солдат, для которых еще не были отменены шпицрутены. Здесь сказалось не только расстройство мышления, но и долгое пребывание Гоголя за границей. То есть в то время у жителей России было множество проблем помимо чтения вслух перевода «Одиссеи» Жуковского. Чтобы в этом убедиться, достаточно почитать самого Гоголя («Ревизора» и первый том «Мертвых душ»).
Но и в «Выбранных местах…» были талантливые, блестящие строки (они, правда, были написаны в 1843 году, когда изменения личности еще не были отчетливо выражены): «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем». Какая меткая характеристика своего творчества и ссылка на Пушкина, который Гоголя высоко ценил! Это не хвастовство – Гоголь имел полное право так писать.
Вспомним, что, к счастью, на начальных этапах болезнь текла приступообразно, отмечались состояния творческого подъема, что давало возможность в полной мере проявиться врожденному чувству юмора Гоголя и использовать сведения, накопленные с помощью его феноменальной способности наблюдать и запоминать.
В общем, творческая судьба Гоголя складывалась удачно. Он был рано признан читателями и литературной братией, его при жизни высоко ставили Пушкин и Белинский, он не был гоним и заперт на жительстве в России, как Пушкин. Он ездил и жил где хотел. Был достаточно обласкан правительством (несмотря на едкую сатиру, его произведения бойко печатались без особых цензурных искажений; на первом представлении «Ревизора» в Александринском театре присутствовал царь с семьей), а в последние годы жизни он имел неплохое денежное содержание. Гоголь постоянно был в окружении почитателей своего таланта, готовых предоставить ему и кров, и материальную помощь. Тем не менее многолетняя болезнь, протекавшая вначале приступами, а затем непрерывно, привела к полному краху его таланта и разрушению личности.
Как мы видели, его оценки в отношении собственных произведений резко сместились, он стал ценить только свои проповеднические труды (позднее некоторые назовут их реакционными), сосредоточив все мысли на состоянии здоровья, которое действительно было неважным. Он постоянно о нем молился и просил об этом всех, в первую очередь мать. Хотя болезнь была психического свойства, видимо, он тяжко страдал, его письма к матери напоминают просьбу Поприщина из «Записок сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку!.. Прижми ко груди своей бедного сиротку! Ему нет места на свете! Его гонят!»
Из общих болезней, кроме того, что он был вообще очень болезненным ребенком, Гоголь перенес отит («течь из уха») в детстве, простудные заболевания, какую-то «южную» лихорадку в Италии. Незадолго до смерти у него опять как будто появились выделения из уха, но никакого серьезного влияния на общее состояние это не оказало. У Гоголя явно была нарушена температурная регуляция. Периодически он испытывал сильные ознобы («мерз»). В некоторых воспоминаниях описывается изумление навещавших его знакомых, которые, придя к нему в довольно теплое или даже сильно натопленное помещение, заставали Гоголя в ермолке, теплом халате и войлочных сапогах. В таком виде он работал. Видимо, поэтому он старался проводить холодное время года в теплых местах (Неаполе, Одессе). Такая чувствительность к холоду наблюдается обычно у людей с крайне восприимчивой нервной системой, им свойственны и беспричинные колебания настроения. Все его жалобы на здоровье (нарушения работы желудочно-кишечного тракта, слабость, неприятные ощущения в различных участках тела), возможно, были тесно связаны с аффективными колебаниями (сниженным настроением, тревогой, одним словом – депрессией). Такое расстройство, когда все мысли сосредоточены на собственном здоровье, когда человек постоянно думает о возможном его ухудшении и «роковом исходе», а фактическое состояние организма больного никакой опасности для жизни не представляет, в психиатрии называют ипохондрией. Она является составной частью депрессии. Все это мы можем видеть, анализируя душевную болезнь Гоголя.
Как мог заметить читатель, картина болезни не ограничивалась этими расстройствами, а включала в себя нарастание отстраненности, появление равнодушия к вещам, ранее волновавшим писателя, и сосредоточение всех мыслей на собственном здоровье, мессианстве, «обязанности» всех поучать, что сочеталось со склонностью к выспренним рассуждениям.
Необходимо добавить, что писатель еще страдал фобией (навязчивым страхом), а именно тафефобией — боязнью быть погребенным заживо. В своем «Завещании» в 1846 году он писал: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться…». То, что описывает здесь Гоголь, можно расценить как кататонический ступор (полная обездвиженность), который может сопровождаться переживаниями овладения или воздействия (ощущением больного, что его действиями овладевает посторонняя сила, отрицательно воздействущая на его тело и разум). Современники вспоминают, что Гоголь панически боялся похорон и под всякими предлогами не участвовал в них, даже если речь шла о близких знакомых.
В советское время нас учили, что, живя в Риме, писатель попал под влияние реакционеров и мистиков. К ним относили в первую очередь художника А. А. Иванова (автора картины «Явление Христа народу»), который также был душевнобольным и страдал манией преследования. Гоголь сам разделял с приятелем его бредовые идеи и учил его, как следует себя вести с воображаемыми преследователями.
В последний раз состояние Гоголя стало ухудшаться в Новый, 1852, год. В это время умерла его многолетняя приятельница Е. М. Хомякова (писатель любил общаться со светскими дамами, которые с восторгом слушали его «поучения»). Гоголь был очень расстроен, утешал вдовца, поэта А. С. Хомякова, а сам становился все более мрачным. Ездил в Преображенскую (психиатрическую) больницу. В то время там пребывал знаменитый юродивый-прорицатель, к которому вся Москва ездила за советами и предсказаниями, – И. Я. Корейша. Гоголь постоял у ворот «на ветру», в больницу не пошел и уехал домой. Состояние его день ото дня ухудшалось, он становился все более замкнутым, почти не ел, постился. Писатель просил хозяина дома, где он квартировал, графа А. П. Толстого, взять его портфель с рукописями, а Толстой «постеснялся» – не хотел разделять мрачного настроения писателя и мыслей о том, что все кончено. И вот в один из вечеров Гоголь в присутствии прислуживающего ему мальчика сжег все свои рукописи (в том числе и второй том «Мертвых душ», отрывки из которого читал публично незадолго до этого). Вскоре после этого он залег в постель и последние дни перед смертью с нее уже не вставал. Вначале лежал в одежде, отвернувшись лицом к стенке, односложно отвечал на вопросы, говорил, что «уже приготовился к смерти», ничего не ел. О своих переживаниях в это время писатель никому не рассказывал, да его никто особенно не расспрашивал. Он страшно похудел, как вспоминал один из врачей, «через живот можно было прощупывать позвонки». Его лечили по крайней мере четыре врача, которые в последние дни перед смертью буквально залечили больного, применив весь арсенал средств тогдашней медицины: ванны, влажные обертывания, кровопускания, пиявки и даже гипноз. Пытались его кормить насильно. Ничего не помогало. Гоголь все время был в сознании, вяло реагировал на процедуры и только просил оставить его в покое. Вероятно, врачи недооценивали тяжесть психического состояния своего пациента. Весть о болезни великого писателя быстро облетела Москву, и в комнате перед его кабинетом толпился народ. Только за 6 – 7 часов до смерти он впал в забытье, а потом, не приходя в сознание, умер. Это случилось 21 февраля (4 марта по новому стилю) 1852 года.
Такова была трагическая безвременная кончина гениального писателя, причиной которой явилось истощение, наступившее из-за отказа от пищи, что, в свою очередь, было обусловлено болезненными переживаниями (бредовые идеи, и, возможно, галлюцинации с депрессивной окраской), резким ухудшением его психического сотояния (обострилась болезнь, мучившая Гоголя большую часть его жизни). Об этом свидетельствуют отсутствие симптомов какого-либо физического заболевания и полное бессилие врачей со всеми лечебными мероприятиями. Болезнь Гоголя, протекавшая на фоне нарастающих изменений личности (замкнутость, расстройства мышления, равнодушие к явлениям, которые раньше волновали и вызывали протест) и проявлявшаяся аффективными колебаниями (депрессии и состояния подъема), а также бредовыми идеями (ипохондрия и мессианство), привела к извращению и уменьшению его творческих возможностей, нарушила его связи с окружением. Сейчас на основании данных признаков можно с достаточной долей уверенности сказать, что он страдал шизофренией с аффективными колебаниями (расстройства настроения), причем у него было приступообразное течение болезни.
Однако и в отведенное ему судьбой время он сумел сделать столько, что, безусловно, воздвиг себе, как и А. С. Пушкин, «памятник нерукотворный». И. С. Тургенев, в то время уже известный литератор, писал в некрологе: «Гоголь умер! – Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Потеря наша так жестока, так внезапна, что не хочется ей верить… – Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!». За этот некролог, напечатанный в Москве в обход цензурного комитета, И. С. Тургенев был сослан в свое имение в Орловской губернии. История повторилась: М. Ю. Лермонтов был сослан за стихотворение «На смерть поэта», явившееся реакцией на убийство А. С. Пушкина.
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ БАТЮШКОВ
Смерть наступила раньше самой смерти

К. Н. Батюшков
Художник О. Кипренский. 1815
Он считался олицетворением молодости и надеждой русской литературы начала ХIХ века, был любимым поэтом Пушкина-лицеиста. Впрочем, и в зрелые годы Пушкин относился к нему с большой симпатией, награждая его эпитетами «счастливый ленивец», «певец забавы». Однако можно утверждать, что великий поэт рассматривал Батюшкова весьма односторонне, что мы и попытаемся показать.
Жизнь Константина Батюшкова для ХIХ века была относительно долгой – 68 лет, но ровно половина ее протекала под гнетом душевной болезни. Творчество продолжалось до 34 лет. Напрашивается дежурная фраза: «Ах, сколько бы он еще написал, если бы не заболел!». Однако в болезни Константина Батюшкова, в том, что, по выражению одного из литературоведов, «смерть наступила раньше самой смерти», есть своя печальная оправданность.
Внешне жизнь его была богата событиями. Родился в 1787 году в небогатой помещичьей семье, которой принадлежало несколько мелких поместий в Вологодской губернии. Детские и юношеские годы прошли в Петербурге, где он получил хорошее образование – сначала во французском, затем в итальянском пансионе; владел французским, немецким, итальянским языками, латынью и греческим. Читал и переводил Гомера, Данте, Боккаччо, Петрарку. Особо боготворил Батюшков поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо, также страдавшего тяжелым психическим расстройством. Не чувствовал ли он родство душ?
После окончания пансиона Батюшков служил в Департаменте народного просвещения и работал в Императорской публичной библиотеке. В начале второй войны с Наполеоном (1806 – 1807), в 23 года, решил пойти добровольцем в армию, где исполнял обязанности сотенного начальника Санкт-Петербургского милиционного батальона, затем отправился на войну в чине подпоручика. В том же году в сражении под Гельсбергом был ранен в ногу и лечился уже в России.
Еще одна война Батюшкова – Русско-шведская (1808 – 1810). Рвался он участвовать и в войне 1812 года, однако вначале расхворался (лихорадка), затем был связан долгом вывезти из Москвы своих родственников. Однако в 1813 году он снова в действующей армии, в дивизии знаменитого героя Отечественной войны Н. Н. Раевского. Участвовал в «битве народов» под Лейпцигом; вместе с победоносными русскими войсками вошел в Париж.
Последнее место его военной службы – захолустный Каменец-Подольск. Отставка. Затем он снова трудился в Императорской публичной библиотеке в должности помощника начальника отдела манускриптов. Дальше Батюшков неожиданно переходит на дипломатическую службу в Неаполь (в Королевстве Обеих Сицилий). Восстание карбонариев приводит его в ужас. После возвращения из Италии в 1821 году «жизнь его превращается в историю болезни» (Зубков Н., 1999).
Но, несмотря на малый срок, отпущенный поэту для творчества, литературное наследие его велико: сатиры, басни, эпиграммы, элегии, поэмы, очерки, переводы, мемуары. Наиболее значительными его литературными произведениями считаются стихотворения «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Мой гений», поэма «Умирающий Тасс», военные мемуары, сказка «Странствователь и домосед». Интересно, что Константину Николаевичу принадлежит сравнение России со скачущим конем, позже блистательно выраженное А. С. Пушкиным («Медный всадник») и косвенно Н. В. Гоголем («птица-тройка»). В очерке «Прогулка в Академию художеств» Батюшков писал: «У нас перед глазами фальконетово произведение… сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостью мысли, сказал мне, указывая на коня фальконетова: „Он скачет, как Россия“».
До болезни поэт был весьма общителен; среди тех, с кем он был близок, – Гнедич, Жуковский, Вяземский, Уваров, дядя и племянник Пушкины, многие другие литераторы из объединения «Арзамас».
В психиатрии первая четверть ХIХ века – время примитивных классификаций. Диагноз, поставленный поэту, – мания преследования – с позиций сегодняшнего дня смешон: под манией подразумевается совершенно иное, и диагноз в целом – не название болезни, а название одного симптома («бреда преследования»). Если же болезнь продолжается непрерывно более 30 лет и не приводит к слабоумию и смерти – это, безусловно, шизофрения.
На самом деле фигура Батюшкова трагическая, сотканная из противоречий. И первым этот трагизм заметил литературовед ХIХ века Л. Н. Майков, издатель его «Писем».
Батюшков признается в одном из писем к П. А. Вяземскому (1816): «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло с летами и чуть не зачернило мне всю душу. Бог и рассудок спасли. Надолго ли, не знаю…».
Возможно, «черное пятно» и тяжелые предчувствия были связаны с отягощенной наследственностью.
В 1795 году умерла его мать, за несколько лет до этого «лишившись рассудка». Еще несколько родственников в предыдущих поколениях были поражены душевным недугом. Старшая сестра поэта, Александра, ухаживавшая за ним в начале болезни, сама в 1829 году «лишилась ума» и вскоре скончалась.
Таким образом, поэт принадлежал к так называемым ядерным семьям, где душевные болезни передаются из поколения в поколение.
Вышеупомянутые противоречия и внутренние конфликты касались определения Батюшковым его места в поэзии. Вопрос «Кто я?» для себя он так и не разрешил.
То он считает для себя достаточным быть дилетантом («Послание к Н. И. Гнедичу»):
А друг твой славой не прельщался, За бабочкой, смеясь, гонялся, Красавицам стихи любовные писал…Или:
Пускай, кто честолюбьем болен, Бросает с Марсом огнь и гром.Но я безвестностью доволен И счастлив в уголке простом.То под влиянием того же Н. И. Гнедича, известного прежде всего переводом «Илиады», решает переводить величайшую (по оценкам своего времени) поэму Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», однако явно не находит сил для этого, под разными предлогами увиливая от обещания Гнедичу, и вообще сомневается в своем таланте («Беседка муз»):
Не молит славы он сияющих даров.Увы! Его талант ничтожен.Ему отважный путь за стаею орлов, Как пчелке, невозможен.То он, вопрошая у Гнедича о том, какая польза от перевода Тассо, снова бросается переводить классику («Песнь песней»), причем весьма неудачно.
Пройдя три войны, Батюшков, хоть и был бесстрашен в бою и не раз награжден, позже сравнивал себя с бабочкой, потерявшей в военном вихре крылья. Перед ним часто возникал призрак смерти. Таким образом, к мучительной раздвоенности: «Кто я?» прибавился новый вопрос: «Зачем все это?», усугубивший пессимизм.
В поэте шла незаметная для других внутренняя работа; он был явным интровертом, раздвоенность в нем наблюдалась постоянно. И он прекрасно это осознавал.
Во фрагменте из записной книжки «Чужое – мое сокровище» свой автопортрет Батюшков начинает словами: «Недавно я имел случай познакомиться со странным человеком, каких много… Ему около тридцати, он то здоров, очень здоров; то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра: ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Лицо у него доброе, как сердце, но столь же непостоянно.
В нем два человека. Оба человека живут в одном теле. Как это?
Не знаю… ».
Нарастанию пессимизма способствовала и история единственной его любви – к Анете Фурман (1813). Батюшков то сомневался в своей возможности вступить в брак – малый рост, малое состояние;
то решал, что не находит ответа на свое чувство, видит вместо любви скорее покорность. Однако отказ от союза с любимой вызвал у самого Батюшкова нервное расстройство, исцеленное войной. Горе испытала и Анета Фурман. Не проявился ли в этой истории впервые «росток» подозрительности поэта?
Были и другие проявления таких «ростков». Еще до рокового 1821 года Батюшков страшился похвал. Затевая издание многотомных «Опытов в стихах и прозе», он то испытывал уверенность в успехе, то вдруг заявлял: «Сделают идолом и тут же в грязь втопчут».
Все это приводило к состоянию, которое в те времена называли «нервическим». Еще в 1813 году он писал П. А. Вяземскому: «Я с ума еще не сошел, но беспорядок в моей голове приметен не одному тебе… Не могу отдать себе отчета ни в одной мысли, живу беспутно, убиваю время и для будущего ни одной сладостной надежды не имею… ».
Всю жизнь Батюшков был ипохондриком, прибегал к «шпанским мушкам», хине. После 1815 года уверял, что война окончательно убила в нем здоровье.
Таким образом, как это часто бывает, «предболезненные расстройства» (до того как шизофренические симптомы грозно возвестят о себе) напоминали невроз. Может быть, сейчас опытный психиатр вычленил бы среди них симптомы шизофрении (подозрительность, сосуществование противоположных мыслей и чувствований). Однако это предболезненное состояние до 1821 года творчеству не мешало.
Казалось бы, любимец читающей публики и собратьев по перу, бесстрашный герой трех войн! Однако еще до 1821 года Батюшкова угнетало ощущение бесполезности прожитой жизни. Приведем краткое содержание его сказки «Странствователь и домосед». Некий афинянин, Филарет, носился по свету, искал истину, а по возвращении домой его сограждане готовились со вниманием выслушать его речь. Но речь он произносит совершенно бессмысленную, одновременно увещевает афинян не воевать, но и с соседями не мириться… Его избивают и изгоняют из города.
Недаром вскоре проявившаяся «мания преследования» включала в себя и депрессивные расстройства.
Первым свидетельством развития настоящей болезни из предболезненных проявлений считается письмо к Н. И. Гнедичу от 26 августа 1821 года. Оно сумбурно. Батюшков пишет о незаслуженных похвалах, находит подозрительным, что по истечении шести лет его снова начали хвалить, но главный предмет письма – опубликование в журнале «Сын отечества» элегий Плетнева «Б-ов из Рима» и «Подписи к портрету Батюшкова». По небрежности одного из сотрудников «Сына отечества» фамилия автора элегий была упущена. Заболевающий поэт воспринял эту накладку совершенно неадекватно. Во-первых, решил, что не принадлежащие ему стихи выпущены под его именем и публика так их и воспримет. Дальше написал: «Нет ничего глупее и злее. Вижу ясно: злость, недоброжелательство, одно лукавое недоброжелательство… Буду бесчестным человеком, если когда что-либо напечатаю под своим именем. Обруганный хвалами, решил не возвращаться в Россию, ибо страшусь людей, которые… вредят мне заочно столь недостойным и низким средством». Плетнева же, искреннего своего почитателя, он и в этом письме, и в дальнейшем именовал «Плетаевым», находя в этом одному ему понятный смысл.
Когда Батюшков все-таки вернулся в Россию, близкие и друзья нашли его совершенно больным. Ему было рекомендовано лечение в Крыму (1822 – 1823). Болезнь продолжала прогрессировать. В Симферополе Батюшков сжег всю свою библиотеку, исключая Евангелие и почитаемого им французского поэта-романтика Шатобриана (позже он называл его «Шатобрильянтом», при этом многозначительно поглядывая на небо). В том же Симферополе он трижды покушался на самоубийство (выбрасывался из окна; в первый весенний день 1823 года пытался перерезать себе горло). Со свежим шрамом на шее, в сопровождении двух санитаров и врача-психиатра, был отправлен в Петербург. Очевидно, в крымский период болезни у поэта были и галлюцинации: полагал, что в печке у него спрятался министр иностранных дел Нессельроде, который следит за ним.