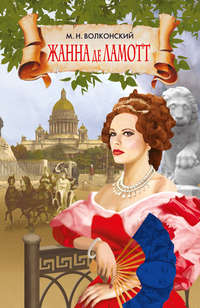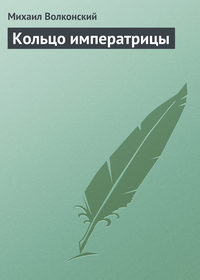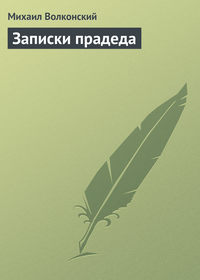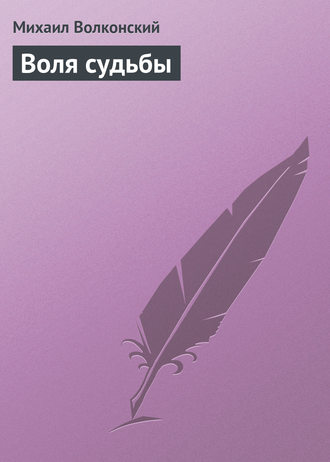 полная версия
полная версияВоля судьбы
«Ну, вот он сейчас станет говорить про свое открытие!» – подумал Артемий и не ошибся.
– Вы знаете, – продолжал Торичиоли, – я перешел от алхимии на чистую химию и сделал одно весьма важное открытие. Теперь вся штука в том, чтобы добиться привилегии на него от русского правительства, и тогда мое состояние обеспечено… Тогда я примусь за исполнение своего плана!..
– Вы думаете добиться этого здесь? – спросил Артемий, наперед уже зная, что ему ответят.
– Не думаю. Вероятно, придется ехать в Петербург. На это дело я достану хоть сейчас средства…
«Так, так и есть! – опять подумал Артемий, и странно было ему слышать такой близкий и до смешного верный отклик расчетов графа. – Боже мой, как люди просты! – удивлялся он, – и как легко управлять ими!»
С нескрываемым восхищеием рассказал он графу о своем разговоре с Торичиоли.
– Вас это удивляет? – равнодушно спросил тот.
– Теперь – нет, но, если бы это было раньше, конечно, оно показалось бы поразительным.
– Нужно уметь сделать расчет так, чтобы он совпадал с необходимыми следствиями фактов, и тогда нельзя ошибиться, – ответил граф. – Нужно изучить логику событий, которые следуют одно за другим в вечной и неизменной последовательности. Я не про Торичиоли, разумеется, говорю – расчет относительно него был слишком ясен и прост. Но во всем один высший разум направляет все. Каждый случившийся факт неизбежен, как предопределение, но это предопределение – следствие законов высшего разума.
Артемий уже давно научился понимать, или, вернее, отгадывать сжатый язык своего учителя, но слова Сен-Жермена о предопределении смутили его, и он невольно подумал о фатализме.
– Нет, это не фатализм, – сказал граф, имевший способность, которую Артемий знал и любил в нем, отвечать во время разговора не только на слова, но и на мысли своего собеседника. – Нет, это не фатализм. Фатализм был бы в том случае, если б человеку при его рождении заранее определялась судьба, отступить от которой он не имеет возможности, как верят магометане… На самом деле человек вполне способен сделать из своей жизни все, что вздумает, но высший, всеведущий разум предвидит заранее его деяния. Вот и все. Если бы кто-нибудь сказал про вас, когда вы вдались в свою алхимию, что вы сойдете с ума, потому что вы на пути к тому, и вы действительно лишились бы рассудка – значило бы это, что вы лишились рассудка потому именно, что про вас сказали так?.. Нет. Но про вас сказали так потому, что вы стояли на пути к сумасшествию. Справедливость не есть то, чего желает Господь, но Господь желает только того, что есть справедливость.
Пробыв в Кенигсберге два месяца, граф Сен-Жермен простился со своими новыми друзьями. Он сделал все, что ему нужно было сделать тут, и ехал обратно в Париж.
Граф всегда путешествовал один, и никто не знал, каким образом совершаются эти его значительные путешествия, с одного места в другое, но никогда он не пропустил назначенного им срока и никогда не бывал в дороге дольше, чем нужно было для самого скорого переезда.
И на этот раз Сен-Жермен явился в Париж ровно через столько времени, которое оказалось необходимым, чтобы его карета, нигде не останавливаясь, проехала от Кенигсберга до столицы Франции, словно ни неприятельской армии, ни дорожных случайностей, ни дорожных преград для него вовсе не существовало.
В Париж он приехал в двенадцать часов, а в половине первого сидел уже в гостиной принцессы Цербстской, без тени усталости в лице, веселый, разодетый, блестя бриллиантами и кружевами, как будто часа три, по крайней мере, был уже занят сегодня своим туалетом.
– И неужели, граф, – сказала принцесса, обрадованная его приездом, – только что кончив свое длинное путешествие, вы чувствуете себя так же хорошо и бодро, как мы, другие, не можем себя чувствовать даже после вечера или бала, проведенного накануне?
– Как видите, принцесса.
– Ну, я очень рада видеть вас. Хотите знать парижские новости? Я сейчас расскажу их вам.
– Главная из них, принцесса, – та, что маркиз Шуазель занял пост министра иностранных дел?
– Вы знаете это?
– Я думаю, и другие, менее важные, тоже известны мне. Вы, конечно, знаете последний разговор маркизы?
Принцесса раскрыла большие глаза.
– Какой разговор? – спросила она.
И граф с обычною своею спокойною улыбкою стал рассказывать ей весь разговор, которого она, будучи все время в Париже, не знала еще.
– Ну, я вижу, что вам не только известно то, что и мне, но даже больше, – протянула она. – Положительно вы – необыкновенный человек!..
– Разве так необыкновенно – знать, что случается в столице мира, как называют Париж? – ответил граф.
– Нет, но оно, конечно, досадно… Я думала сама удивить вас… Впрочем, у меня есть для вас вещь, которая, может быть, поразит вас… Помните, бумага, которую вы мне дали пред вашим отъездом в ложе в театре?..
– Я никогда ничего не забываю, принцесса.
– Да, ее должен был подписать этот богач, старая развалина, маркиз Каулуччи. Так вы просили?..
– И он подписал ее?
– Вы и это знаете?
– Нет, принцесса, но только предполагаю. Это зависело от вас, а я уверен, что если вы пожелаете, то все будет так, как вы захотите.
– На этот раз ваша любезность справедлива, граф, бумага подписана. Маркиз Каулуччи давал нам бал, он действительно ведет в Париже широкую жизнь… Он должен быть страшно богат! – и, говоря это, принцесса встала со своего места, подошла к письменному столику со шкафиками розового, дорогого, с инкрустациями, дерева, достала оттуда сложенную бумагу и протянула ее графу. – Вот она, и надпись маркиза красуется на ней, – добавила она. – Довольны ли вы мной, граф?
– Я не знаю, как благодарить вашу светлость, тем более, что случилось то, что я предполагал, – сам бы я не мог добиться этого.
– А что?
– Маркиз Каулуччи сегодня умер в ночь.
Принцесса остановилась, пораженная. Это была уже вторая новость, которую ей сообщал этот только что приехавший в Париж человек.
– Ах, это ужасно! – проговорила она. – Я его видела только вчера.
И она грустно задумалась, ощущая то особенно неприятное чувство, которое испытывает человек при известии о внезапной смерти кого-нибудь, с кем говорил и кого видел накануне.
Граф заметил это ощущение и, чтобы отвлечь его, спросил принцессу, каким образом была подписана бумага.
– Вы мне столько оказали услуг, граф, что мне было приятно постараться исполнить вашу просьбу, и я ее исполнила, – ответила она. – Как? Не все ли вам равно… Случай помог мне… вот и все. Но какой случай – пусть останется моей тайной…
Граф не расспрашивал дальше. Он умел уважать чужие тайны.
Часть третья
I. Давнишние приятели
Конец весны 1762 года стоял над Петербургом не только теплый, но и жаркий, какой часто бывает здесь, когда солнце, словно предчувствуя, что спрячется летом за серые облака дождливых дней, спешит нагреть настуженный за зиму воздух и порадовать людей своими ласковыми, теплыми лучами.
– Ишь, денек какой для приезда выдался светлый! – говорил князь Андрей Николаевич Проскуров, расхаживая по не совсем еще оконченным устройством комнатам нового своего дома на реке Фонтанной.
И этот светлый день, как счастливое предзнаменование, радовал его, не нарушая внутреннего довольства, которое он испытывал теперь, а напротив, соответствуя ему. Доволен был князь и новым своим домом, и Петербургом, сильно изменившимся к лучшему, отстроившимся в те долгие годы, в продолжение которых он не был здесь; приятно было ему сознание оконченной длинной дороги; но самое важное, почему было весело и хорошо теперь на душе князя Андрея Николаевича, заключалось в том, что наконец он, проведший так много времени в деревне, в глуши, был призван в столицу. И, главное, он никого не просил об этом, ни к кому не обращался, а продолжал себе смирно сидеть в своем Проскурове, и вот дождался наконец…
«Да, да, наступили светлые дни! – думал он, поглядывая и тоже радуясь тому, как дворня, под предводительством старого Ивана Пахомовича, ловко и споро работает над устройством его будущего жилища и оно быстро принимает вид роскоши, достойной для приема не только кого угодно, но даже самого государя. – Даже самого государя!» – самодовольно улыбнулся Проскуров, нарочно дольше останавливаясь на этой мысли, как бы смакуя ее.
Теперь, в своих занесшихся мечтах, он помышлял уже о приеме у себя государя.
И все это оттого только, что его неожиданно вернули в Петербург, со вступлением на престол молодого императора Петра III, того самого, которого несколько лет тому назад князю Андрею Николаевичу удалось принять в своем Проскурове.
Князь, разумеется, не знал, что его возвращение случилось гораздо проще, чем он думал.
Императрица Елизавета Петровна скончалась 24 декабря 1761 года, и на другой же день резко определился характер нового царствования: иностранцы – Бирон, Миних и Лесток – тотчас же были возвращены из ссылки. Единственно заметный из истинно русских людей, сосланных, Бестужев-Рюмин, сначала враг Екатерины, потом друг, пострадавший главным образом из-за нее, остался невозвращенным. Но советники нового императора, под влиянием которых он действовал и не в интересах которых было помилование Бестужева, человека совсем противного им направления, понимали, что имена Бирона, Миниха и Лестока слишком неприятно звучат для русского слуха, чтобы ограничить милости нового царствования одними ими. Нужны были еще какие-нибудь пострадавшие, однако такие, возвращения которых бояться было бы нечего. Князь Проскуров, вечный бригадир, вполне подходил под условия, и между прочими подобными ему вспомнили о нем и послали указ в деревню князя.
Но там, в этой деревне, указ произвел совершенно иное впечатление. Князь Андрей Николаевич решил, разумеется, что государь, вероятно, вспомнил о своем посещении Проскурова, вспомнил о нем, старике, и, нуждаясь в опытных советниках (так думал старый князь), призвал его для деятельности как человека, много лет проведшего в провинции и потому изучившего ее нужды. И, как каждый меряет все на свой аршин, так и князь Проскуров ждал уже от нового царствования неведомых благ для России, потому что самому ему, князю Проскурову, было хорошо теперь.
Первым, кого пожелал видеть князь по приезде в Петербург, был старик Эйзенбах. Он тогда еще, когда узнал о смерти Карла на войне, написал письмо старому барону, которое восстановило между ними прежние отношения. Теперь князь Андрей Николаевич, призванный в Петербург, думал, что у него сейчас же явятся здесь более серьезные, чем барон Эйзенбах, связи, что он будет представлен государю, познакомится с лицами, близкими ему, но на первых порах барон являлся очень удобным человеком, чтобы узнать от него поподробнее как от столичного старожила, в каком положении, собственно, находятся дела, кто имеет нынче силу, кого следует сторониться и с кем дружить. И Проскуров, не теряя времени, в день же своего приезда послал сказать Эйзенбаху, что ждет к себе.
Положение барона было далеко не цветущим. Расстройство денежных дел и смерть сына сильно повлияли на него. Он опустился, постарел и перестал относиться к жизни с прежнею энергией, чувствуя, что теперь не для кого ему стараться: тех крох, которые остались у него, довольно было, чтобы кончить век со старухою-женою, до сих пор не забывшей еще потери своего Карла, а больше этого, то есть вот чтобы дотянуть остаток дней, барон ничего не желал. Но известию о приезде Проскурова он все-таки очень обрадовался. Все-таки приятно ему был повидать давнишнего приятеля и посмотреть, каким он теперь стал, и Эйзенбах поспешно отправился к князю.
– Ну, здравствуй, старый! – встретил его тот с распростертыми объятиями. – Ты меня извини, не прибрано еще, ну, да для друзей ничего!
Они обнялись и крепко поцеловались.
Князь Андрей Николаевич, в особенности в сравнении со стариком бароном, казался таким молодцом, что тот невольно удивился, глядя на его полные, румяные щеки и цветущий, довольный вид.
– Каким ты молодцом, однако, князь! – сказал он, покачивая головою. – Ну, княжна что, здорова?
Неловко было не спросить про княжну, хотя при воспоминании о ней у Эйзеибаха снова, в один миг, поднялось все горе, которое он пережил после неудачного сватовства сына. Ведь за этим сватовством последовал отъезд Карла в армию, потом смерть и все несчастия.
Князь заметил это.
– Спасибо, голубчик, ничего, здорова, тоже приехала, она на своей половине разбирается, – ответил он вскользь, боясь хоть и чужим горем расстроить светлое свое настроение. Затем он взял барона по друку и провел через несколько комнат. – Ну, вот, сядем здесь, – сказал он, – тут нам не помешают. Ну, рассказывай, что нового?
– Да что, князь? – ответил садясь Эйзенбах. – Вот прежде всего тебя поздравить надо.
Князь. Андрей Николаевич улыбнулся.
– Да, батюшка, наконец-то мы дождались царствования благого, справедливого и мудрого! Наконец-то мужская рука взяла российский скипетр!
Барон угрюмо молчал, видимо, относясь вовсе не так уж восторженно к этому новому царствованию, как Проскуров. Ему было нечему радоваться теперь. Все его радости заключались в сыне, которого отняла у него служба, и с тех пор он ничем не мог быть доволен.
– Что же, – продолжал Проскуров, – молодой государь блестяще начал: уничтожил тайную канцелярию, свободу веры объявил, теперь указ о вольности дворянской…
Эйзенбах вздохнул.
– Ты чего вздыхаешь? – спросил готовый уже вспыхнуть Проскуров.
Барон знал и помнил эти его вспышки, но теперь, когда ему все уже было решительно безразлично и он не нуждался ни в чем, он не боялся более этих вспышек.
– Конечно, нам теперь лучше будет житься: возле государя стоят умные немецкие люди, – протянул он. – Король Фридрих – друг ему. Но в том-то и беда, что трудно ручаться за то, что удержится все хорошее, что они сделают.
– Как трудно ручаться?
– А у нас так идет: что сделают сегодня, то разделают завтра… Совсем, как говорится, «славны бубны за горами».
Несмотря на долгое пребывание Эйзенбаха в России и несмотря на его довольно правильную русскую речь, в этой речи все-таки проскакивали значительные промахи. Так, он прилагательное «тучный» применял только к «небу», когда оно бывало покрыто тучами; называл иногда комнату «беспечною», если в ней не было печки, и вместе с тем очень любил, хотя и далеко не всегда кстати, употреблять чисто русские пословицы.
– Вот указ о вольности дворянской, – продолжал Эйзенбах. – Ты знаешь, как он был написан? Говорят, сам государь в Сенате сказал: «Я хочу объявить вольность дворянам». Сенат сказал: «Хорошо». Генерал-прокурор Глебов предложил поставить золотую статую новому императору. Сенат сказал: «Хорошо», – и пошел с докладом о золотой статуе. Он получил в ответ громкую фразу, что памятника не нужно – сами дела будут памятником… А о деле и забыли. Прошел месяц. Император пожелал скрыть от Елизаветы Воронцовой, что по ночам он кутит…
– Отчего именно от Елизаветы Воронцовой?
– Как «отчего»? А ты не знаешь? Она же – первое лицо теперь.
– Вот как! Что ж, хороша собою?
– Графа Романа Илларионова дочь, нисколько не хороша и не умна вовсе.
– Так как же это так?
Эйзенбах только пожал плечами.
– Ну, вот он пожелал от нее скрыть и сказал, что пойдет заниматься важными делами, а сам ушел кутить и запер Волкова, тайного секретаря, в комнате, вместе с датскою собакой, сказав ему, чтобы к утру он сочинил какой-нибудь важный указ. Ну, вот Волков сидит, собака на него рычит, а он думает, о чем же он будет писать? Думал, думал и написал о вольности дворянской.
– Ну, может, это все и врут, – возразил Проскуров, которому не хотелось верить этому рассказу.
– Нет, это – правда. Яков Штелин рассказывал мне, что он, увидев бывшего своего воспитанника, то есть нынешнего императора, за пивом и с трубкой, очень удивился, а тот ему ответил: «Чему ты удивляешься, глупая голова? Разве ты видел хоть одного настоящего офицера, который бы не пил и не курил?» И это постоянно: английское пиво и вино, вино и английское пиво.
Князь Андрей Николаевич покачал в свою очередь головою.
– Но ведь все-таки дела-то идут, – сказал он. – Пока, вероятно, другие делают… Ну, а потом он образумится, в лета войдет…
– Однако ему тридцать третий пошел! И нельзя сказать, чтоб он не вмешивался – из-за этого-то и идет такая бестолковщина, что никто в завтрашнем дне не уверен!.. Было решено перевести мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург, а потом опять указ: оставить коллегию в Москве. Возьми еще: 9 января уничтожены полицеймейстеры в городах, а 22 марта они восстановлены, и так много очень… И недовольных много. Духовенство и черное, и белое. Черное недовольно тем, что вотчины у монастырей отняты, а белое – что сыновей священников забирают в военную службу…
– Да, конечно, это – мера опасная, – согласился старый князь, – но что ж, найдутся советники, которые смогут воздержать… Выйдут новые люди…
Под этими советниками, которые «смогут воздержать», и новыми людьми он, видимо, разумел себя. Эйзенбаху это было ясно.
– Ну, нынче и это трудно! Нынче на стариков иначе смотрят. Прежде всего всякий, желающий служить, должен идти в военную службу… Это, говорю, чтобы на виду быть. А в военной службу все на голштинский манер заведено… Не угодно ли в строю служить и маршировкой заниматься…
– То есть учить, ученья производить, – поправил князь Андрей Николаевич.
– Нет, самому маршировать, батюшка! Вот князь Никита Юрьевич Трубецкой, сенатор, и тот преисправно во всех орденах, с лентою, в мундире с золотыми нашивками, со своим эспантоном марширует наравне с молодыми, месит грязь пред солдатами.
– Может ли это быть? – опять удивился князь.
– Да на что уж гетман – младший Разумовский, Кирилл – должен, теперь держать на дому у себя молодого офицера, который учит его новой прусской экзерциции.
Призадумался князь Андрей Николаевич, а что как вдруг и его, старого, то же заставят проделывать? – и его хорошее расположение духа быстро стало изменяться. Он уже не с прежним удовольствием, как начал, продолжал расспрашивать о новых порядках, и, чем больше рассказывал ему барон, тем грустнее становилось на сердце князя – по всему было видно, что время переживается переходное, что так, как прожили со дня смерти покойной императрицы, жить нельзя долго и что держава русская находится не в руках мужа, как думал сначала Проскуров, а в руках тридцатитрехлетнего ребенка, никогда не способного стать не только истинно русским правителем, но и вообще сдержать на своих слабых плечах тяжелое бремя власти.
– Куда же ты? Посиди еще!.. – стал удерживать князь Эйзенбаха, когда тот наконец встал, чтобы проститься.
Барон просил извинить его и отказался от обеда.
– Нет, – пояснил он, – мне домой пора. Видишь ли, мне сказали, что на днях должен приехать из армии офицер того самого полка… – и барон не договорил, чаще заморгав глазами.
Андрей Николаевич понял, что дело шло о полке, в котором служил Карл.
– Ну, так вот, – подхватил Эйзенбах, стараясь овладеть собою, – мне обещали прислать его ко мне, и я тороплюсь, может быть, он приехал… До сих пор я не имею никаких подробностей.
Эйзенбах заторопился и, несмотря на уговоры князя, быстро ушел. Он и то уже засиделся слишком долго.
II. Мать и отец
Офицер, о котором старик барон говорил князю Проскурову и которого он ждал со дня на день, чтобы узнать наконец хоть что-нибудь о смерти сына, потому что до сих пор, несмотря на все старания, это оказывалось невозможным, – был присланный курьером из армии Артемий Проскуровский, но Эйзенбах не знал, что это – он, тот самый воспитанник князя Проскурова, из-за которого не состоялась свадьба Карла с княжною.
В военной канцелярии было только известно, что теперь очередь приехать одному из чинов Тарасовского полка, о чем и сообщили барону. Знакомый Эйзенбаху начальник обещал прислать курьера к нему – вот все, что барон знал, и до самого офицера ему никакого собственно дела не было.
Главным лицом, через кого старик барон имел постоянные справки из военной канцелярии и даже из самого только что образованного военного совета, был некогда рекомендованный им князю Проскурову итальянец Торичиоли.
Теперь Торичиоли, в продолжение трех лет возившийся в правительственных местах, чтобы произвести проект своего усовершенствования взрывчатого вещества, имел в военных кругах некоторые связи. Дело откладывалось с месяца на месяц, но Торичиоли не особенно беспокоился этим. Видимо, он отлично устроился и под шумок, так сказать, своего дела обделывал разные дела, получая с них известный доход. Его положение в Петербурге было настолько хорошим, что Эйзенбах удивлялся изменчивости судьбы. Давно ли, кажется, этот итальянец искал его протекции, когда хотел попасть к князю Андрею Николаевичу, и вдруг теперь барону приходится самому обращаться к нему с просьбами. Но не только это, и материальное обеспечение Торичиоли было, по-видимому, благодаря его ловкости, гораздо лучше теперь, чем Эйзенбаха. Одет он был всегда прекрасно, имел возможность бывать в том же обществе, где бывал и барон, и главное – умел стать необходимым сильным людям.
– Теперь я живу со дня на день, – говаривал он, – но, когда мой проект будет утвержден, я стану богатым человеком.
С переменою, происшедшею со вступлением на престол Петра III, хитрый итальянец устроился еще лучше, и хотя его проект все-таки еще не был утвержден, но деньги уже завелись у него, и довольно большие. Никто не знал, откуда они.
Когда Эйзенбах вернулся от князя домой, оказалось, что он недаром торопился, потому что почти вслед за ним приехал Торичиоли.
– Ну, что, есть известия? – встретил его барон. – Вы не знаете, явился в Петербург курьер из армии?
Торичиоли сказал, что явился.
– Тарасовского полка?
– Да.
– Что же, приедет он ко мне?
– Вот видите ли, – начал Торичиоли, – когда я сегодня утром пришел в канцелярию, – это слово он произнес с видимым пренебрежением, как человек привычный, – то мне сказали, что курьер приехал, но имя его Артемий Проскуровский.
– Ну, что ж из этого?
– А то, что это – тот самый Артемий Проскуровский, который был воспитанником князя и из-за которого произошла тогда вся история.
Старый Эйзенбах опустил голову.
– Вот оно что! – протянул он. – Ну, и что ж, он не хотел приехать ко мне?
– Нет, я отправился к нему. Мы ведь потом еще встречались с ним в Кенигсберге. Но я отправился, собственно, для вас, потому что думал, что вам едва ли будет приятно видеть его.
– Ну, – подбодрил барон.
– Ну, и он мне был очень благодарен. Ему уже приказали поехать к вам, и он не знал, как это сделать… Он мне все рассказал.
У двери в это время послышалось шуршание женского платья, и старуха баронесса, не выдержав, просунула в комнату голову. Она не знала, можно ли ей войти.
– Войди, Луиза, войди! – тихо разрешил ей муж. – Вот Иосиф Александрович привез известие…
Он, видимо, хотел подбодрить и себя, и жену и как-то косо улыбнулся. От этой улыбки его лицо стало еще грустнее.
Баронесса вошла и, даже не поздоровавшись с итальянцем, чтобы не задерживать его рассказа, чуть слышно опустилась на стул у самой двери. Она так и впилась своими красными от слез глазами в Торичиоли. Последний стал передавать то, что рассказал ему Артемий.
Странно, при их сближении в Кенигсберге – правда, коротком – они никогда не говорили о Карле. Артемий словно избегал этого. Но теперь он подробно рассказал все, что знал, нарочно выставляя в самом лучшем свете храбрость Карла и поведение его под пулями.
Торичиоли, передавая рассказ, разумеется, в свою очередь, не жалел красок.
– Скажите! – не утерпел барон. – Он был сержантом в его роте?.. Как это странно, как это странно! И он уже офицер теперь?
– О, да, он – тоже очень храбрый молодой человек и вполне заслужил свой чин! – сказал Торичиоли, как бы заступаясь за Артемия.
«А все не храбрей нашего Карла!» – подумали старики Эйэенбахи.
– Герой, герой!.. – шепотом повторял барон про сына, слушая Торичиоли.
Но когда тот дошел до того момента, когда Артемий увидел, как упал Карл, и бросился к нему, крепившийся до сих пор Эйзенбах не выдержал и, закрыв лицо руками, заплакал, как ребенок.
Баронесса не плакала. У нее слез не было. Она только осталась все в той же случайной и неловкой позе на стуле, как села, и, казалось, забыла теперь все… Забыла, что люди могут плакать, могут выразить, облегчить свое горе; только мускулы ее лица судорожно тряслись, и изредка вздрагивали ее худые, тонкие руки.
Торичиоли казался тоже расчувствованным и тронутым.
Но у него волнения хватило именно на столько времени, пока он сидел у Эйзенбахов. Долго оставаться у них ему было некогда. Он окончил свой рассказ, сказав несколько слов утешения, и затем, вдруг приняв из грустного деловой вид, поднял брови и начал прощаться. Каждый час у него был теперь рассчитан, и он, сделав, как он думал, для Эйзенбахов «все, что мог», поспешил дальше. Было без четверти два, а ровно в два он уже должен был увидеться с одним из своих земляков, пьемонтцем Одаром, бывшим прежде личным секретарем новой императрицы и теперь управлявшим небольшою принадлежавшею ей мызой вблизи Петербурга. Торичиоли всюду умел пробраться.