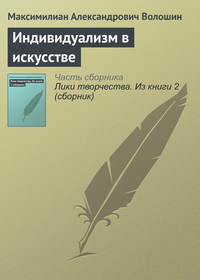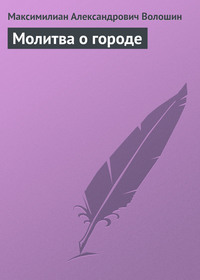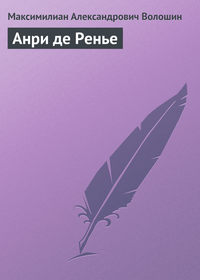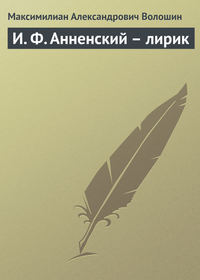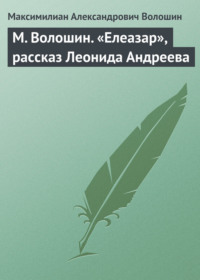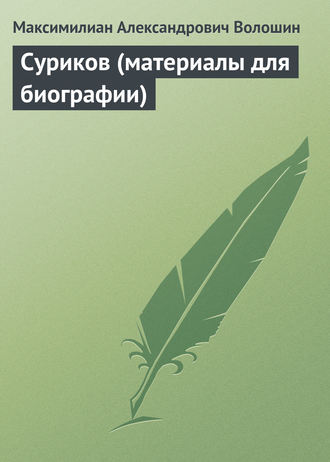 полная версия
полная версияСуриков (материалы для биографии)

Волошин Максимилиан
Суриков (материалы для биографии)
Автопортрет. 1879 г. Познакомился я с Василием Ивановичем Суриковым в начале 1913 года, когда И. Э. Грабарь предложил мне написать о нем монографию для издательства Кнебеля. Через общих знакомых я обратился к Василию Ивановичу[1] с вопросом: не буду ли я ему неприятен как художественный критик и не согласится ли он дать мне материалы для своей биографии. Василий Иванович ответил, что ничего не имеет против моего подхода к искусству, и согласился рассказать мне свою жизнь. Когда мы встретились и я изложил ему предполагаемый план моей работы, он сказал: «Мне самому всегда хотелось знать о художниках то, что Вы хотите обо мне написать; и не находил таких книг. Я Вам все о себе расскажу по порядку. Сам ведь я записывать не умею. Думал, так моя жизнь и пропадет вместе со мною. А тут все-таки кое-что останется».
Наши беседы длились в течение января месяца. Во время рассказов Василия Ивановича я тут же делал себе заметки, а вернувшись домой, в тот же вечер восстановлял весь разговор в наивозможной полноте, стараясь передать не только смысл, но и форму выражения, особенности речи, удержать подлинные слова.
Смерть Василия Ивановича застала мою монографию еще не оконченной. Но я спешу опубликовать мои разговоры с ним как материалы для его биографии и для того, чтобы хоть в слабой степени запечатлеть звуки его живого голоса.
Приведя в порядок мои записи, я построил их не в последовательности наших бесед, так как Василий Иванович часто отвлекался, возвращался назад и повторял уже рассказанное, но в порядке хронологическом, чтобы дать связную картину его жизни.
Суриков был среднего роста, крепкий, сильный, широкоплечий, моложавый, несмотря на то, что ему было уже под семьдесят: он родился в 1848 году. Густые волосы с русою проседью, подстриженные в скобку, лежали плотною шапкой и не казались седыми. Жесткие и короткие, они слабо вились в бороде и усах.
В наружности простой, народной, но не крестьянской, чувствовалась закалка крепкая, крутая: скован он был по-северному, по-казацки.
Рука у него была маленькая, тонкая, не худая. С красивыми пальцами, суживающимися к концам, но не острыми.
Письмена на ладони четкие, глубокие, цельные. Линия головы сильная, но короткая. Меркуриальная – глубока, удвоена и на скрещении с головной вспыхивала звездой, одним из лучей которой являлось уклонение Аполлона в сторону Луны.
Однажды, рассматривая его руку, я сказал Василию Ивановичу: «У Вас громадная сила наблюдательности: даже то, что Вы видели мельком, у Вас остается четко в глазах. Разум у Вас ясный и резкий, но он не озаряет области более глубокие и представляет полный простор бессознательному. Идея, едва появившись, у Вас тотчас же облекается в зрительную форму, опережая свое сознание. Вы осознаете из форм…»
Он перебил меня: «Да вот у меня было так: я жил под Москвой на даче,[2] в избе крестьянской. Лето дождливое было. Изба тесная, потолок низкий. Дождь идет, и работать нельзя. Скушно… И стал я вспоминать: кто же это вот точно так же в избе сидел. И вдруг… Меншиков… сразу все пришло – всю композицию целиком увидел. Только не знал еще, как княжну посажу.
…А то раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, черным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал. Да и „Казнь стрельцов“ точно так же пошла: раз свечу зажженную днем на белой рубахе увидал, с рефлексами».
В творчестве и личности Василия Ивановича Сурикова русская жизнь осуществила изумительный нарадокс: к нам в двадцатый век она привела художника, детство и юность которого прошли в XVI и в XVII века русской истории.
В одной научной фантазии Фламмарион рассказывает, как сознательное существо, удаляющееся от земли со скоростью, превышающей скорость света, видит всю историю земли развивающейся в обратном порядке и постепенно отступающей в глубину веков.[3]
Для того чтобы проделать этот опыт в России в середине XIX века (да отчасти и теперь), вовсе не нужно было развивать скорости, превосходящей скорость света, а вполне достаточно было поехать на перекладных с запада на восток, по тому направлению, по которому в течение веков постепенно развертывалась русская история.
Один из секретов Сурикова – цельного и подлинного художника-реалиста, посвятившего жизнь самому неверному из видов искусства, исторической живописи, – в том, что он никогда не восстанавливал археологически формы жизни минувших столетий, а добросовестно писал то, что сам видел собственными глазами, потому что он был действительным современником и Ермака, и Стеньки Разина, и боярыни Морозовой, и казней Петра.
Он происходил из старой казацкой семьи. Предки его пришли в Сибирь вместе с Ермаком. Род его идет, очевидно, с Дона, где в Верхне-Ягирской и Кундрючинской станицах еще сохранились казаки Суриковы. Оттуда они пошли завоевывать Сибирь и упоминаются как основатели Красноярска в 1622 году.[4] Здесь двести двадцать шесть лет спустя и родился В. И. Суриков.
«После того как они Ермака потопили в Иртыше, – рассказывал он, – пошли они вверх по Енисею, основали Енисейск, а потом Красноярские Остроги – так у нас места, укрепленные частоколом, назывались».
Развертывая документы и книги, он с гордостью читал вслух Историю Красноярского бунта,[5] когда казаки спустили по Енисею неугодного им царского воеводу Дурново, и при упоминании каждого казацкого имени перебивал себя, восклицая: «Это ведь все сродственники мои… Это мы-то – воровские люди… И с Многогрешными я учился – это потомки Гетмана…».[6]
А потом он начинал рассказывать: «В Сибири народ другой, чем в России: вольный, смелый. И край-то какой у нас. Сибирь западная – плоская, а за Енисеем у нас уже горы начинаются: к югу тайга, а к северу холмы, глинистые – розово-красные. И Красноярск – отсюда имя; про нас говорят: „Краснояры сердцем яры“».
Горы у нас целиком из драгоценных камней – порфир, яшма. Енисей чистый, холодный, быстрый. Бросишь в воду полено, а его бог весть уже куда унесло. Мальчиками мы, купаясь, чего только не делали. Я под плоты нырял: нырнешь, а тебя водой внизу несет. Помню, раз вынырнул раньше времени: под балками меня волочило. Балки скользкие, несло быстро, только небо в щели мелькало – синее. Однако вынесло. А на Каче – она под Красноярском с Енисеем сливается – плотины были. Так мы оттуда – аршин шесть-семь высоты – по водопаду вниз ныряли. Нырнешь, а тебя вместе с пеной до дна несет – бело все в глазах. И надо на дне в кулак песку захватить, чтобы показать; песок чистый, желтый. А потом с водой на поверхность вынесет.
А на Енисее острова – Татышев и Атаманский. Этот по деду назвали. И кладбище над Енисеем с могилой дедовой: красивую ему купец могилу сделал. В семье у нас все казаки. До 1825 года простыми казаками были, а потом офицеры пошли. А раньше Суриковы все сотники, десятники. А дед мой Александр Степанович был полковым атаманом.[7]
Сноски
1
Через общих знакомых я обратился к Василию Ивановичу… – «Общими знакомыми», устроившими встречу Волошина с Суриковым, были, по-видимому, художник П. П. Кончаловский и его жена Ольга Васильевна, дочь Сурикова.
2
…я жил под Москвой на даче… – Летом 1881 г. Суриков с семьей жил в деревне Перерва близ станции Люблино.
3
…Фламмарион рассказынает, как сознательное существо видит всю историю земли развивающейся в обратном порядке и отступающей в глубину веков. – Волошин имеет в виду второй раздел книги Камиля Фламмариона «Люмен» – «Refluum temporis» («Обратное течение времени»). См.: Фламмарион К. Люмен. (Разговоры о бессмертии души). СПб., [1897], с. 52–82.
4
…основатели Красноярска в 1622 г. – Красноярский острог был построен в 1628 г.
5
…Историю Красноярского бунта… – Видимо, имеется и виду статья Н. Н. Оглоблина «Красноярский бунт 1695–1698 годов» (Журнал Мин-ва народного просвещения, 1901, No.5; отд. отт. – 1902).
6
…потомки Гетмана… – Гетман Левобережной Украины Демьян Игнатьевич Многогрешный был сослан в Сибирь в 1672 г.
7
… дед мой Алексей Степанович был полковым атаманом. – Неточность: полковой атаман Александр Степанович Суриков был двоюродным братом деда художника, Василия Ивановича Сурикова.