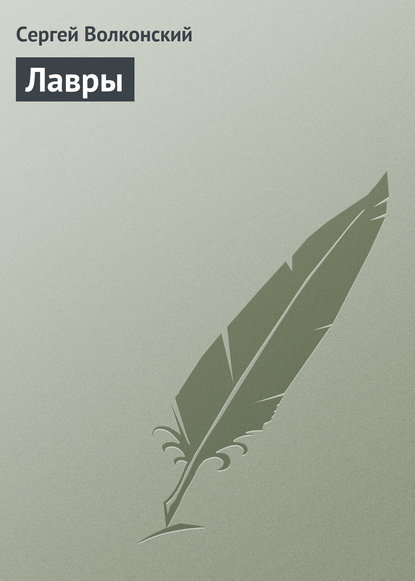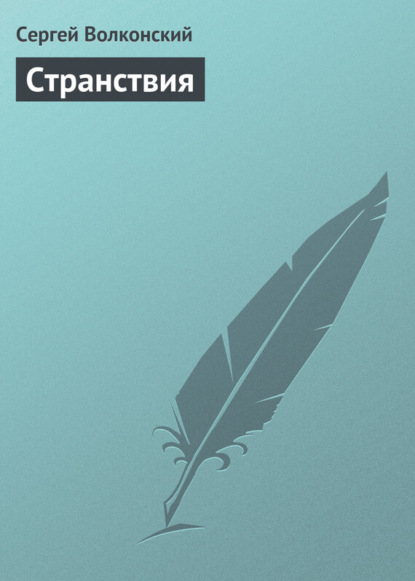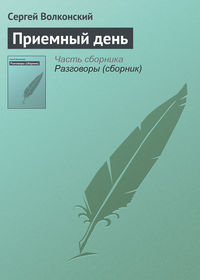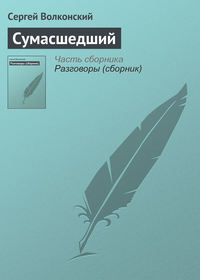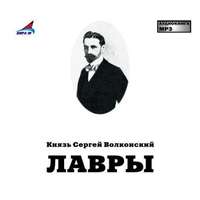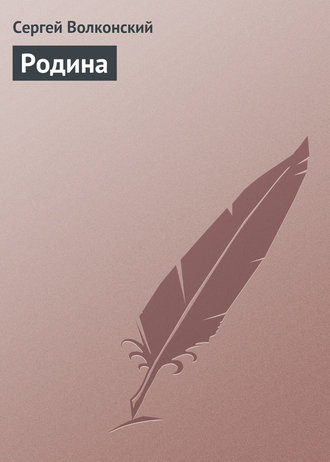 полная версия
полная версияРодина
– Что такое?
– Ваше сиятельство, императрица Мария Феодоровна в Мариинском театре.
Уже голос швейцара выдавал необычайность этого известия. Мария Феодоровна дождалась похорон королевы Виктории, чтобы снять свой театральный траур. Вероятно, при дворе было разногласие относительно того, закрывать ли театры или нет. Мария Феодоровна рассекла гордиев узел. Кроме того, слышал, что она была недовольна тем, что ее сыну, Михаилу Александровичу, бывшему заместителем государя на похоронных торжествах, было предоставлено недостаточно почетное место.
В связи с этим помню еще. В то время гостил в Петербурге брат молодой императрицы, великий герцог Гессенский. Он поехал на похороны королевы и после похорон вернулся. Отличный музыкант, прекрасный знаток Вагнера, он очень сокрушался, что не может из-за траура ездить в театр. Тогда шли вагнеровские оперы с восхитительной Фелией Литвин. Но он нашел способ и предписания траура соблюсти и в театре бывать. Однажды государь мне сказал:
– Великий герцог в трауре, а ему хочется в театр ездить. Мы решили, что он будет в вашу ложу ездить.
– Слушаюсь, ваше величество.
Так для внука траур по бабушке выразился в том, что он перешел из одной ложи в другую. Мы видались раза три в неделю. Это был человек редких художественных дарований.
Мария Феодоровна после того часто бывала в театре. Всегда милая, приветливая. Однажды в ложе Михайловского театра она сказала мне: «Je vous presente mes fiances» (Представляю вам моих молодых). Это были великая княжна Ольга Александровна и принц Петр Александрович Ольденбургский. Он, «Петя Ольденбургский», был близким другом, товарищем детства моего брата Владимира. Впоследствии супруги, которых я приветствовал в ложе, разошлись. Знаю, что мой брат, бывший в одинаково добрых отношениях с обоими, несмотря на трудность положения, сохранил эти отношения до конца…
Помню, в том же Михайловском театре поставили мы однажды «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Я несколько колебался, боясь впечатления, которое может произвести ходульность и напыщенность этой несколько наивной драмы «пера и шпаги». На первом представлении царская ложа была битком набита. Вхожу в антракте – Мария Феодоровна говорит:
– Какая интересная пьеса.
– Да, только боюсь, что иногда автор не достигает своей цели.
– Как так?
– Он заставляет нас улыбаться, когда хочет заставить содрогаться.
– Нисколько, я нахожу, что пьеса очень волнующая.
Главная прелесть Марии Феодоровны была та детская свежесть, которую никогда она не утрачивала; ни положение ее, ни претерпенные несчастия, ни возраст не сняли с нее яркость ее детской души.
Я, конечно, был рад, что пьеса понравилась и даже очень понравилась. Но от критики влетело дирекции за постановку пустяков. И так всегда сидела дирекция между критикой и «ложей»…
Особенно на виду директор во время придворных спектаклей в театре Эрмитажа. Дивная зала амфитеатром, дивная, как все, что строилось при Екатерине. Все скамьи полукругом вверх уже заняты гостями. Внизу, в середине, на ровном полу четыре ряда кресел для царской семьи и статс – дам. Директор театров стоит наверху, около дверей, с пачкою афиш в руке. Входят государь и императрица; за ними императорская фамилия. Так как я стою справа от двери, то императрица ко мне ближе, государь дальше; я подаю две афиши, но императрица руки не протягивает. Происходит заминка. Государь мимо императрицы протягивает руку и берет афиши. Я замечаю, что ей эта задержка не нравится. Улавливаю несколько английских слов, произнесенных недовольным шепотом; слышу, скорее угадываю: «Не могу же я идти, когда меня задерживают». «Но чем же я виноват?» – подумал я. На следующем спектакле то же самое. Я, конечно, мог бы становиться с левой стороны и прямо передать афиши государю; но, думаю, правильнее ей подносить, а не ему; и потом, перейдя на другую сторону, я, значит, признаю, что заметил ее неудовольствие. Я остался на правой стороне, и на третьем спектакле государь с некоторой поспешностью сказал: «Дайте мне афиши». После этого я уже становился на левую сторону от входа.
Императрица Александра Феодоровна не была приветлива, обходительность не была в ее природе. Кроме того, она была до мучительности застенчива. Она с трудом выжимала слова, и лицо ее при этом покрывалось красными пятнами. Это свойство ее, да к тому же явное от природы нерасположение к роду человеческому, огульное недоверие к людям лишили ее всякого ореола популярности. Она была имя, ходячий портрет. Ее обхождение было отбыванием официальной повинности, из нее ничего не излучалось. Помню, однажды я присутствовал при представлении дам. Это было во время так называемого «большого бала» в Зимнем дворце, первого в году бала; на нем присутствовало до четырех тысяч человек. Танцевали в Николаевском зале; в соседнем, Концертном, в этот вечер было представление дам: 93 дамы было выстроено в ряд. Императрица стала обходить. И вот странную вещь я заметил: фрейлины, княжна Мария Викторовна Барятинская и Екатерина Петровна Васильчикова, шли впереди императрицы, и пока она, например, говорила с первой дамой, они занимали разговором вторую и т. д. Это для того, чтобы ни одна не слышала разговора императрицы с соседкой. Одно из последствий застенчивости – боязнь быть услышанным… Но вся церемония приобрела характер какой-то суетливости. Я в этот вечер был дежурным камергером при императрице и потому находился в этой зале во время приема. Дежурным флигель – адъютантом был герцог Юрий Михайлович Лейхтенбергский. Помню, я ему сказал: «Девяносто три дамы. Какое кровавое число»…
На одном из эрмитажных спектаклей я попросил у государя позволения в следующий раз представить ему композитора Глазунова, балеты которого «Времена года» и «Испытание Дамиса» должны были идти. Во время антракта вся публика эрмитажного спектакля толпится в красивом фойе, что над мостом, перекинутым через Зимнюю канавку. Я привел Глазунова. Государь в это время проходил в другую сторону залы; я не хотел бежать за ним и говорю великому князю Владимиру Александровичу: «Я хотел бы государю сказать два слова, только не знаю, как это сделать». А Владимир Александрович своим зычным голосом окликает: «Ваше величество! Директор театров хочет вам сказать два слова»…
Отпустив Глазунова, государь остался посреди залы один; я подошел. Он сказал, что Глазунов выражал желание заняться симфонической музыкой, что он устал от балетов. А Глазунов сказал мне после: «Государь и то говорит, что мне надо отдохнуть от балетов». Это я очень часто замечал, как люди бывали впечатлительны к царскому одобрению их слов; они утверждались в своих мыслях и в конце концов были уверены, что исполняют желание государя, а не собственное намерение… Государь продолжал стоять посреди залы; мы заговорили о трудностях театральной работы, в особенности на праздниках, когда двойные спектакли. Я указал на то, что работа рабочих сцены не поддается никакой оценке. Иногда после спектакля производится репетиция декораций и освещения, затягивается это до четвертого часа ночи, а на другой день утренний спектакль – уже в одиннадцать часов надо быть в театре. Рабочие, сказал я, неутомимы, и никакое жалованье не может вознаградить преданность делу.
Если кто-нибудь возымеет грязную мысль, что я так пишу, потому что я нахожусь в «эресефесерской» атмосфере, тому отвечу, что я это пишу потому, что я это сказал.
Но государь был рассеян в этот вечер, трудно было завладеть его вниманием, а молчать тоже нельзя было. Я заговорил об Ухтомском. «Очень славный малый», – сказал Николай II. Он его давно не видел; тогда уже начиналось охлаждение… Я почувствовал, что Ухтомский – «разогретое блюдо»… От Ухтомского перешли к путешествию, заговорили о дальних островах; я сказал, что в Японии я заходил в ту лавочку, куда его положили, раненного, после покушения, даже купил в лавочке кусок шелковой материи… Мы говорили уже довольно долго; разговор принимал затяжной характер, а в глазах публики, которая не знала, о чем говорим, приобретала видимость исключительного внимания к директору театров. Между тем он ни сам не трогался, ни меня не отпускал. В стороне стоял генерал Рихтер, заменявший отсутствовавшего Фредерикса. Он подошел и, как муж Татьяны, «прервал сей неприятный тэт – а-тэт». Я пошел по своим делам на сцену.
Эрмитажных спектаклей было при мне очень много. Ими любили угощать иностранцев. На одном из них присутствовал несчастный Фердинанд Австрийский, тот самый, убийство которого в Сараево послужило сигналом войны.
Вспоминаю еще парадный спектакль в Петергофе по случаю приезда шаха персидского. Я сидел в царской ложе за креслом государя. Шах сидел между государем и императрицей. Он страдал одышкой, все время обмахивался афишей, и через мое плечо каждые пять минут придворный арап подавал ему стакан воды со льдом. Слышу и сейчас звон льдинок о тонкий хрусталь… Шел один акт из «Конька – Горбунка», в который я для этого случая вставил чардаш, поставленный на музыку рапсодии Листа. Это было очень задорно, очень захватывающе. Этот номер так и остался вставленным в «Конька – Горбунка» и удержался на сцене и после моего ухода.
Николай II был очень доволен чардашем и вообще был в этот день в прелестном настроении. Когда после обмена любезностями через переводчика с шахом простились и он выходил из ложи, государь, вдруг спохватившись, воскликнул: «Миша, Миша!» – и махнул рукой по направлению двери. Михаил Александрович опрометью бросился на лестницу, обогнал меня и пошел рядом с шахом. Внизу, перед тем как окончательно проститься, шах сказал что-то по-персидски своему переводчику; тот по-французски сказал великому князю: «Его величество поручает мне сказать вашему высочеству, что его величество так тронут приемом, оказанным ему его величеством, что, сколько бы он ни искал, он никогда не найдет соответствующих слов, чтобы выразить его величеству всю свою благодарность». Перед этим потоком восточного красноречия Михаил Александрович конфузливо молчал… Я по этому случаю был пожалован второй степенью ордена Льва и Солнца: лента через плечо, но не зеленого (это первая степень), а красного цвета. Это был мой единственный знак отличия, я не имел ни одного ордена…
Вернусь к впечатлениям Эрмитажа.
Как красива в эрмитажном павильоне бальная зала, в мавританском стиле, белая с золотом. Бал в этом зале – это одно из самых красивых зрелищ. Зал отделен колоннами от смежной гостиной, и над этими колоннами балкон, с которого можно обозревать обе комнаты – и танцующих на блестящем паркете, и гуляющих по мягкому малиновому ковру гостиной. Из гостиной – открытая дверь в зимний сад, в котором во время балов в спрятанных за зеленью клетках стрекотали канарейки, – «певцы зимой погоды летней».
Однажды давно, еще в годы моей юности, я входил из зимнего сада в гостиную. Комната была пуста; только на диване сидели сестра Александра III, великая княгиня Мария Александровна, по мужу герцогиня Эдинбургская, с бывшей своею воспитательницей графиней Толстой. Я потихоньку направлялся к ним. Великая княгиня смотрит в мою сторону и говорит графине: «Почему этот дикарь не танцует?» Я в недоумении останавливаюсь. Обе дамы разражаются хохотом, и Мария Александровна говорит: «Да не вы. Сзади вас». Я обернулся – в углу стоял в своем национальном костюме князь Данило Черногорский.
Марию Александровну всегда вспоминаю с удовольствием. Человек с ясным взглядом на вещи. Оставшись совершенно русской, она вместе с тем приобрела от долгой жизни в Англии и Германии, как бы сказать, более свободный угол зрения на наши русские условия и обстоятельства. Помню, был у нее в Ницце, в ее вилле Favron. Долго беседовали о том, что делалось в России, в частности, о полосе официального ханжества, которое тогда выразилось в московском всенародном говении. «Всегда государи говели; никогда не считали нужным об этом кричать на перекрестках». И помню, как она тут же сокрушалась о том, до какой степени в России в этом отношении отуманены умы. С братом своим Сергеем она о некоторых вопросах уже не может говорить…
После эрмитажных спектаклей бывал ужин в залах картинной галереи. Что за красота! Среди Веласкесов, Тицианов, Веронезов, в этих дивных, мрамором лоснящихся залах музея – круглые столы, скатерти, серебро, хрусталь, цветы, и вокруг столов белые с золотом ампирные стулья. Шум и движение рассаживающейся толпы. Бриллианты, мундиры, голые плечи, эполеты, перья, ленты, звезды и красные ливреи придворных служителей в белых чулках. В музейных залах, среди малахитовых и ляписовых ваз, пахло цветами, и над чашками поднимался легкой струйкой вкусный пар горячего бульона.
Однажды я ужинал за столом, за которым ужинал государь. Было несколько великих князей из молодых. Я сидел рядом с принцессой Голштинской, родственницей английского королевского дома, приехавшей погостить в Петербург. После первого блюда началась обычная забава, которой в таких случаях предается эта молодежь. Полетели через стол хлебные шарики; сперва робко, исподтишка, потом все гуще, и перестрелка вовсю. Николай II не отставал от прочих. Шарики попадали и в меня по ошибке – думаю, по крайней мере, что по ошибке, – я передавал их соседке своей, говоря, что не имею права присваивать себе то, что не мне предназначалось…
Какая легкость на верхах общественной жизни. И рядом с этой легкостью такая тяжесть. То есть не то удивительно, что вверху легкость, а внизу тяжесть; в этом что же удивительного? Это и в природе так: вверху пар, благоуханье, дым, внизу осадки, кристаллы, уголь. Но здесь меня поражало это близкое соседство, даже смешение легкости и тяжести. Эта картина беззаботности и тут же рядом ответственность; эта непринужденность и тут же бдительность. И эти все сановники, министры, государственные деятели, которые, в силу того, что они работники, должны быть и участниками этого легкого времяпрепровождения. Для министра одинаково обязательны и его канцелярия, и приемный день, и этот спектакль, и этот ужин.
И потом, меня всегда поражало: вокруг этих столов сколько разговора и сколько умолченного. Впрочем, умолчание есть установившийся прием. Когда Николай II получил телеграмму о Цусимском поражении, он играл в лаунтеннис. Он положил телеграмму в карман и продолжал игру. Тут было отчасти свойство характера, а отчасти был и обычай. В Аничковском дворце при дворе Александра III ни об одном проекте не говорили, об отъездах узнавали накануне и как-то вскользь, мимоходом. Среди придворных было даже такое выражение – «le silence d’Anitchkof» (молчанье Аничковского дворца). Но Николай II к обычаю прибавил и личные черты. Он за завтраком получил телеграмму о падении Порт – Артура. Кладя телеграмму в карман, он сказал: «Интересно, долго ли продержится Стессель…» И вот вокруг этих столов за ужином – сколько веселого говора и сколько серьезно умолченного. У министра внутренних дел, например, сколько такого, о чем он говорит утром у себя в кабинете и о чем никогда не заговорит за ужином. Какие разные люди те, с которыми он говорит там, у себя, и те, с которыми разговаривает здесь; и как он обязан тем и как любезен с этими. Может быть, это так и нужно – корни и цветы. Вся жизнь из корней и цветов. Но почему в неодушевленной природе это сочетание так красиво, а в одушевленной это соседство так жутко? Никогда на этих общественно – придворных верхах чувство беззаботности не заражало меня, и никогда чувство жуткости меня не покидало: мой шарик не летел.
И почему-то всегда я думал о трех надписях к солнечным часам, которые читал не помню где.
Первая надпись: «Uti umbra dies nostri» (Что тень дни наши).
Вторая надпись: «Vos umbra, me lumen regit» (Вами тень, мною свет руководит).
Третья надпись: «Ultimam time» (Бойся последнего).
Всегда предносился мне этот «последний час». Всегда я ощущал наставленные ножницы Парки, готовые перерезать беззаботную пряжу под взором тщетной бдительности. И в какую огромную игру, в какой своеобразный танец превращалось все это, когда сплетались в сознании и беззаботность и жуткость, и цветы и корни, и хлебные шарики и бомбы… Помню, что во время коронации Николая II я говорил тем, с кем делился впечатлениями: это последняя. Среди тогдашнего апофеоза беззаботности я думал: что скажет бдительность, когда народу надоест кричать «ура», и что сделает этот народ, когда перестанет его тешить «зрелище»?
И вспоминалось мне иногда, как в Америке после одной из моих лекций один из слушателей заговорил со мной. Жалею, не помню, кто он был. Огромный человек с внешностью вроде Петра Великого. В разговоре между прочим спросил меня, долго ли я останусь в Америке. Говорю, что должен поспевать на коронацию.
– Well, these things won’t last long (Ну, эти вещи не будут долговечны).
– What do you mean? (Как так?)
– Are you a freemason? (Вы франмасон?)
– No, I’m not (Нет).
– Well… then… (Да, ну… в таком случае…)
Никогда не испытал так ясно, что я прикоснулся к чему-то неизвестному, жуткому и огромному…
С такими мыслями вращался я в сферах – и в высших и в низших, и в придворных и в чиновных, и в сферах искусства и в сферах печати. И все мне казалось неустойчиво, преходяще, все имело лишь ценность временной формы. И цветы мне казались ничтожны, когда я думал о корнях, и корни мне были противны, когда думал о цветах… И всегда я ощущал, что «сферы» не для меня. Расскажу, как я из них вышел.
Глава 9
Фижмы
– Ах да, Волконский, я хотел вам сказать… я знаю, что «Фиамметга» требует много репетиций, теперь масленица, они устали – дайте лучше в пятницу «Маркитантку».
– Слушаюсь, ваше величество.
Это было в царской ложе Мариинского театра во время антракта. Только за три дня перед тем, в той же ложе, пробегая репертуар, государь мне сказал, что он так рад будущую пятницу увидеть балет «Фиамметта», которого никогда еще не видел. Почему же вдруг отмена? Я, конечно, мог ответить, что артисты вовсе не устали, что одноактный балет не требует репетиций, что все рады показать государю что-нибудь такое, чего он еще не видал… Но я знал, что мои слова будут ни к чему. Я слишком хорошо чувствовал, что то, на что он ссылался – усталость артистов, праздники и пр., – это не причина, а лишь предлог.
Есть ли на свете что-нибудь более трудное, как опровергать предлог? Опровергните – сейчас явится другой. Uno avulso, non deficit alter. Мне всегда казалось, что предлог – злейший враг логики. Ведь предлог – это то, что нарушает самую нерушимую связь явлений – причинность; это есть подмена естественного рождения каким-то насильственным подбором. А тот случай, о котором я рассказываю, представляет собой некоторую разновидность. Дело в том, что государь верил в то, что говорил; он действительно думал, что артисты устали и пр. Для него это был не предлог, это была причина. Но в таком случае в чем же дело? Откуда было у меня такое ощущение бесполезности всяких доводов и почему, несмотря на искренность государя, я испытывал ту неловкость, которую испытываю всегда, когда вместо причины стою перед предлогом? Очевидно, что-то произошло в промежутке тех трех дней. Произошло вот что.
Когда из царской ложи я вышел на сцену, подозвал режиссера и сказал, чтобы он подчистил «Фиамметту», так как государь собирается ее посмотреть, оказывается, – я этого тогда и не заметил, – в двух шагах от меня стояла Кшесинская. «Фиамметту» танцевала балерина Трефилова, которую Кшесинская терпеть не могла; услыхав мои слова, – это мне передали впоследствии, – она сказала: «Ах вот как! «Фиамметта» не пойдет». И «Фиамметта» не пошла. Вот, значит, где произошла подмена причины предлогом.
Кшесинская достигала всего, что хотела. Через великого князя Сергея Михайловича, с которым она жила, она восходила к государю, который в память своих когда-то близких к ней отношений разрешал все ее просьбы. Она при этом умела так обставить свою просьбу, что выходило, как будто ее обижают. Во всяком случае, государю казалось, что она является страдалицей за прежнее его к ней благоволение. Поэтому он думал, что, разрешая ее просьбы, он тем самым восстановляет справедливость, избавляет ее от несправедливого преследования. В данном случае, очевидно, и просьбы не было или, вернее, личной просьбе была придана видимость заступничества за других. Государю предоставляется случай выказать свое внимание к артистам, измученным двойными спектаклями на масленой неделе. И он выказал внимание, он сказал: «Поставьте лучше «Маркитантку».
Не в первый раз государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта. Что, например, было непригляднее скрытой стороны этого факта? Именем царя совершается возмутительная несправедливость. А вместе с тем что было проще и яснее видимой стороны этого происшествия? Государь «входит в положение» бедных артистов. И вот почему в этом случае, как и всегда в других подобных случаях, я мог ответить только и ответил: «Слушаюсь, ваше величество».
Нелегко было быть орудием несправедливости. Я уже не говорю о том, что всякий такой случай, становясь предметом всеобщего обсуждения за кулисами, возбуждал волнения, разжигал страсти и, конечно, не способствовал ни укреплению дисциплины, ни утверждению авторитета директора. И, однако, выйти в отставку я не мог – «видимость» не дала к тому уважительного основания. Был, правда, один случай, но он произошел при самом начале моей службы и при таких обстоятельствах, что я должен был примириться с фактом. Вот как это было.
Мой предшественник по управлению театрами, Иван Александрович Всеволожский, заключил контракт с дрезденской балериной Гримальди. Этот контракт я унаследовал; с ее дебютов начинался балетный сезон 1899 года. Она дебютировала в «Жизели» с большим успехом. Следующий балет по контракту – «Тщетная предосторожность»; начались репетиции. В одно прекрасное утро на приемном дне является ко мне Кшесинская, заявляет свои права на исключительное исполнение «Тщетной предосторожности» и просит не отдавать другой то, что она называла «мой балет». Я отказал, ссылаясь на контрактное обязательство и указывая на то, что ни в опере, ни в драме не существует монополии ролей, что нет основания вводить этот обычай в балетную труппу: и в самом деле, разнообразие для публики, для балерин – соревнование. Она вышла недовольная. На другой день – ко мне звонок; у телефона великий князь Сергей Михайлович; спрашивает, когда я могу заехать к нему. Условились – на следующий день. Приезжаю. «Я хотел с вами поговорить насчет Матильды Феликсовны, насчет «Тщетной предосторожности».
Начинается все то же самое, и с моей стороны те же ответы – сказка про белого бычка. Я указывал, кроме того, на дисциплину, чувство служебного долга. Он все это отмахивал и настаивал все на одном: «Отнеситесь к вопросу не с служебной сухостью, а с человечностью, с сердечностью». Видя, что из этого разговора на балетные темы ничего не вытанцуется, я сказал, что подумаю и напишу ему, вперед решив, что ответ мой будет отрицательный.
На другой день был мой доклад у министра Двора, барона Фредерикса. Через день он уезжал с государем в Дармштадт, и я предупредил, что в его отсутствие у меня будет столкновение с моим августейшим тезкой и что, может быть, и до него дойдут о том отголоски. Прощаясь со мной, он сказал: «Будьте тверды». «Я буду», – сказал я. «Будете ли вы?» – подумал я.
Надо сказать, что перед тем, как мне был предложен пост директора императорских театров, запросили моего близкого друга, князя Александра Андреевича Ливена, способен ли я буду противустоять вмешательству великих князей в театральные дела. Ливен поручился за мою самостоятельность в этом отношении. Но после первых же докладов у министра я понял, что он никогда не будет опорой. Ведь это же элементарная истина, что опираться можно только о то, что способно противустоять. Фредерикс, при рыцарски – благородных качествах своих, был характера рыхлого; я ясно ощущал, что его напутствие есть совет, но не может быть принято как обещание. Фредерикс, кроме того, был недалек; он был неподвижного ума. Доклады у него иногда бывали очень тяжелы – он с трудом улавливал суть дела; всякий доклад надо было подавать в самых коротких словах – его мышление сейчас же утомлялось, его не хватало ни на какое более длинное рассуждение. Самое благоприятное для меня это бывало, когда он чувствовал усталость, тогда он не спрашивал объяснений и прямо подписывал… Решив соблюсти свою «линию», я на другой день написал Сергею Михайловичу мой мотивированный отказ исполнить его желание. Получил в ответ письмо столь же недовольное, сколько нескладное, которое кончалось так: «А что Вы пишете, что отвечаете мне по зрелом размышлении, то и я обратился к Вам не без оного. Оскорбив Матильду Феликсовну, Вы обидели и меня». На этом кончилась первая глава происшествия. Репетиции «Тщетной предосторожности» продолжались.