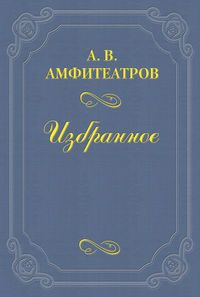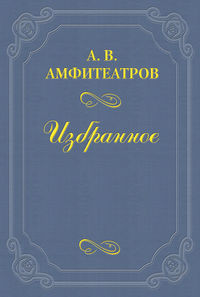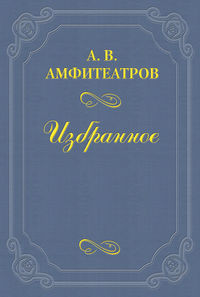полная версия
полная версияДомашние новости
– Стыдно, Катя…
– Да еще когда этот хлеб так дорого, таких обид стоит, что поперек горла становится… Я и пустилась своего хлеба искать. Головой не могу найти, – думаю, руками найду…
– Извини, Катя, – поспешно перебил ее брат, – ты Толстого не начиталась ли?
– Нет… Какой Толстой? – спросила Катя с откровенным недоумением.
– Писатель. Он почти то же говорит, что и ты. Только он вовсе умственный труд отметает… всех зовет к ручному.
– Нет, я бы учительшей либо акушеркой больше хотела быть, чем – как теперь, – вдумчиво молвила Катя. – Хорошо, у кого в уме светло… Но как я ничего не могу, то, стало быть, и состоять мне при ручном деле. Заходила я иной раз к маме Федосье, – ведь она кормила меня, помните, братец? – нравилось мне, как она живет, кружевничает… работа хорошая, тонкая… Мама Федосья была ко мне добра… Я выплакала ей свою беду, что у папаши я жить не могу, а идти некуда. Либо я зарежу Сашку, либо дом сожгу, либо сама утоплюсь… Мама Федосья мне и говорит: нет, ты, Катя, не режь ее и сама не топись, а, как станет тебе невтерпеж, приди ко мне; я тебе что-нибудь присоветую…
– Подожди, Катя, – перебил ее опять Александр Николаевич, – эта Александра Кузьминишна мне самому показалась противна… но с чего, собственно, началось у тебя такое озлобление?
Катя всплеснула руками.
– Братец! да как же иначе? Ведь она – как у нас проявилась? Когда мамашу разбил паралич и отнялись у нее ноги, – она меня ни на шаг от себя не отпускала; по хозяйству хлопотать было некому; вот и взяли в дом эту проклятую… Мамаша с места двинуться не может: а она – бесстыдная! в ее же доме… Нет, братец, вы со мной про это не говорите, а то я тут сбиваюсь… – сказала она с потемневшим лицом; но вдруг сама близко наклонилась к Александру Николаевичу:
– Братец, а ведь она мамашу удушила!..
Чилюк невольно отшатнулся. Мурашки пробежали у него по спине.
– Что ты, Катя… Бог с тобою…
– Удушила, братец! Доктора говорят, будто мамаша померла от второго удара… А отчего же этот удар приключился как раз в ту ночь, когда я у мамаши в спальне не спала?.. Прокралась, подлая, в спальню, да подушкой и задушила. Вы моему слову верьте. У меня есть в сердце такое, что меня никогда не обманет. Мамаша хоть и без ног, а еще бы десять лет прожила: она была крепкая…
– Бредишь ты, Катя…
– Все вот так говорят, все! – с горечью возразила Катя, – и папаша, и даже мама Федосья, на что уже всякому моему слову верит. А я врать не умею… Вы слушайте: я в маменькиной комнате, когда покойницу на стол убирали, Сашкину подвязку нашла и спрятала… Тогда у меня и подозрения никакого не было. После – много после – папаша как-то раз говорит мне, чтоб я его простила, если он женится на Александре Кузьминишне. Тут мне в виски так и стукнуло, так все мне и просветлело, и, как мне дело представилось, так я все и выложила папаше. Он рассердился, затопал на меня ногами и прогнал с глаз долой; а вскорости прилетает ко мне сама Сащка, – лица на ней нет… И давай на меня кричать: как я смею клеветать на нее. А я вынула из ящика подвязку и спрашиваю: это – что?.. Она вся побелела, прыг ко мне, выхватила подвязку из рук да в карман ее… Я к ней бросилась, а она… ох, братец!..
Катя, бледная, как мертвец, опять пригнулась к брату, почти уронив голову ему на плечо.
– Она меня по щеке два раза ударила! – глухо прошептала она.
Чилюк ничего не сказал, но так ударил кулаком по столу, что доски затрещали и вздрогнула посуда на надстольных полках. Он встал и медленно прошелся по избе. Потом наклонился к сестре и поцеловал ее в голову. Катя почувствовала слезу, упавшую на ее волосы, и покраснела; взор ее засверкал благодарным восторгом и слезами…
Кое-как справившись с волнением, она продолжала:
– Я тогда обезумела… к пруду бросилась… да на самом берегу вспомнила маму Федосью: не топись, а приходи, посоветуйся… Так, в чем была, и прибежала к ней, и выплакалась… «Утро вечера мудренее», – говорит мама. Напоила меня малиной, уложила спать, а Максима – племянник ее, кузнец, – послала в нашу усадьбу сказать, чтобы не беспокоились, что барышня-де у нее отдыхает. Поутру рано, с зорькою, будит меня мама Федосья: «Вставай, Катюша, обряжай вот эту одежу, – платье мне простенькое припасла, – да пойдем-ка мы с тобой к Пафнутию в Боровск, помолимся! Авось в мозгах-то у тебя просветлеет, – увидим, как тебе дальше быть…» Целую неделю до Боровска шли, там три дня пробыли… Назрело у меня в душе – пойти к маме Федосье в жилички… Дальше – как сами видите.
Катя умолкла.
– Катя! – сказал Александр Николаевич, крепко взволнованный, – ты молодец… только этому конец положить надо. Что себя мучить? Я тебя увезу отсюда…
Катя, не глядя на брата, покачала головой.
– Ты не хочешь?.. значит, довольна?..
– Довольна, братец, я здесь при деле. Привыкла.
– Дело будет и в другом месте, и привыкнешь к другому месту.
– Что, братец, – как слышно? войны не будет? – не отвечая, спросила Катя.
– Нет, кажется… а что?
– Я бы в милосердные сестры пошла… А так, просто – куда мне ехать, братец? зачем?
– Я тебя устрою в Петербург к хорошим людям…
– Что же я у них делать буду?
– Что понравится, что знаешь…
– А я же ничего не знаю… а что умею, тому здесь место, а в Петербурге ни к чему… Даром я хлеба есть не хочу… дурочкой между людей жить тоже не согласна… У меня гордость есть. Нет, братец, – вы только не обижайтесь, родной! – оставьте меня, как нашли, не ворошите… И мне придется привыкать к новым людям, и новым людям ко мне; полюбимся ли друг другу, еще бабушка надвое сказала, – а здесь уже дело верное. И я люблю, и меня любят…
В уме Александра Николаевича мелькнула быстрая мысль…
– Позволь, Катя, – остановил он ее, – я вижу, что ты честная девушка, и тебя не следовало бы об этом спрашивать, но отец намекал мне о каких-то дурных слухах…
– Я знаю, что на усадьбе про меня говорят, – спокойно сказала Катя, глядя прямо в глаза Александру Николаевичу, – что у меня любовник есть. Вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Чудные! коли на меня плохо надеются, хоть мамушке бы поверовали: она у нас строгая, святая, – все знают… Вот, – она улыбнулась, застыдилась и покраснела, – замуж я, может быть, точно пойду…
– За кого же? за здешнего?
– Да… за Максима, матушкина племянника…
– Ты его любишь?
Катя задумалась.
– Люблю… – не совсем смело начала она и потом гораздо решительней договорила – Очень уж хороший он человек, мало таких на свете, и меня крепко любит…
– Совсем, значит, свяжешь себя с Теплой слободой?
– Совсем… что же? Я ведь с нею расставаться и так не собираюсь, – сказала Катя и вдруг неожиданно прибавила: – Он меня из воды вытащил… случилось тут… тонула я один раз…
– Как же случилось?
– Так… Вы не думайте, что я нарочно… просто, на плоту мыла белье, да и сорвалась. Плавать я хорошо умею, да меня под плот затянуло. Другие девушки закричали; Максим подоспел, бухнул в воду и вытащил… После того мы с ним и поладили, чтобы повенчаться.
– Конечно, дай тебе Бог счастья, но… Скажи, пока ты жила у отца, ты ни разу не собиралась замуж идти?
– Нет… Маменька последние годы больная была, – как мне от нее было уйти? А женихи тогда были. Александра Кузьминишна тоже подыскивала мне женихов, – сбыть меня ей хотелось; да как же можно за нелюбимого человека замуж идти?.. зачем?..
– А никто не нравился?
Катя промолчала.
– Не уживаются по нашей глуши хорошие люди из нашего сословия, – сказала она потом, – скучно им тут, к большим городам их тянет… за пьяницу, либо бездельника, либо слабодушника, хоть бы и полюбился на грех, какая радость выйти? Был один, – тихо сказала она, – доктор… хороший человек… шибко мне нравился, и я ему… Только я этому доктору сама сказала: вы меня оставьте! я не для вас… Я вам не пара…
– Почему же, Катя?
– Умный он был, очень образованный. Все говорили, что ему в столице большая дорога будет, когда он земский срок отслужит. Ну… на что ему такая жена, как я? Неуч, беспамятная… Всюду бы я его осрамила, всякие бы пути ему завязала. Сокол в небо рвется, а я ему – путы на ножки… что хорошего? И Бог весть, надолго ли бы его любви хватило?.. Кандалы, хоть из золота их слей, милы не будут… Да и любовь ли еще была? Глушь ведь у нас… скука… а я не урод собой… к тому же видел он, что меня крепко обижают… вот и пожалел… Подумала я так-то ночку, другую, поплакала – и отказала…
– Тяжело тебе было! – участливо отозвался Александр Николаевич.
– Не-хо-ро-шо, – раздумчиво протянула Катя, – что же? не все мед пить, напьешься и водицы… Прошло уже, забылось… Он теперь в Петербурге… Жениться стал – письмо прислал… хорошее письмо… только лучше бы его не писать было! А то что такое? Точно благодарит: спасибо, что меня не погубила…
Катя засмеялась, и звонкий звук смеха свидетельствовал, что неудачный роман не оставил в ее душе никакой горечи…
– Ах, Катя, Катя! – улыбаясь, говорил Александр Николаевич, – видал я чудных людей, а таких, как ты, не случалось… Так не поедешь со мной?
– Нет, братец… простите… не поеду. От добра добра не ищут.
– Как хочешь, дитя мое, неволить я тебя не буду. Насильного счастья не бывает. Я довольно пожил на свободе, чтобы не знать этого… Но я богат. Позволь мне помочь тебе. Вы… – он окинул глазами убранство хаты, – не слишком-то здесь роскошничаете…
– Вы денег хотите мне дать? – спросила Катя.
– Если позволишь…
– Денег мне дайте, если богаты. Мы оттого и свадьбу не играем, что надо новую хату ставить, а денег у нас не богато… Я вам скажу, братец, правду, что мама Феодосья стала на старости к беспоповцам клонить, и они ее очень почитают. Ну, а нам с Максимом что же ее тяготить? В одной хате две веры нехорошо… ссориться станем…
– Да, возьми, сколько хочешь. Ты у меня одна, – мне не жалко.
– Чай, женитесь, братец!
– Женюсь ли, нет ли, это еще вилами на воде писано… А ведь твоего Максима я уже видел! – весело воскликнул Чилюк, глядя в окно, – право, видел: он станок починял… Ведь это он идет по двору?
Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Думалось – шевельнется этот богатырь, и либо плечом стену высадит, либо головой потолок проломит. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что, по дороге из кузницы, он забежал на пруд искупаться. Александру Николаевичу богатырь показался почти красавцем, со своим румяным лицом, рыжеватой бородой и веселыми голубыми глазами, которыми он с великим недоумением уставился на Катю: это, мол, что за гость у вашей милости? Зачем?
– Максим, это мой брат, Александр Николаевич, из-за границы приехал, – улыбаясь, сказала Катя, – не забыл меня, спасибо ему, пришел навестить…
Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что, казалось, он весь засветился: и глаза как будто стали ярче, и румянец алее, и борода рыжее. Он низко поклонился и несмело протянул руку Чилюку. Руки были пожаты крепко, приветствия сказаны горячо, но затем наступило неловкое молчание. Александр Николаевич с досадою чувствовал, что, при всей своей опытности, при всем своем навыке к обращению с самыми разнообразными людьми, он не находит тона, которого надо держаться. Они смотрели друг на друга, как люди разных миров – с любопытством, но без участия, и с некоторой боязнью. Всем троим было неловко. Побормотав несколько вялых фраз, шаблонных и бесцветных, о своей радости за сестру, о своей уверенности, что выбор ее пал на хорошего человека, Чилюк резко оборвал речь, встал и начал прощаться. Максим, слушавший Александра Николаевича с каким-то конфузливым испугом в глазах, был, видимо, рад, когда Чилюк замолчал. Катя не удерживала брата.
– Я приду в город проводить вас, – сказала она, любовно глядя в глаза Александру Николаевичу; и он по взгляду ее понял, что она отлично чувствует, как неловко ему между нею и Максимом, но извиняет ему это и не сердится. – В усадьбу мне нельзя, а в город приду. Вы дайте мне знать, когда будете уезжать.
– Завтра вечером я уеду.
– Скоро так? – грустно отозвалась Катя.
– Эх, – искренним вздохом вырвалось у Александра Николаевича, – что мне тут делать, Катя? У вас здесь, на Теплой слободе, – все свое, новое; там, на усадьбе, – тоже свое, хоть и старое… И здесь, и там я лишний, чужой человек; от старого отвык, к новому не привык; старое, Катечка, мне противно, новое – непонятно. А времени разбираться нету. Жизнь у меня в деле: как вода в котле, ключом кипит. Прощай, друг Катя! Шел я тебе помочь, а отчасти, каюсь, и поругать тебя, но крепко ты мне полюбилась. И жаль мне тебя оставлять здесь, и думается мне, что ты хорошо себя понимаешь и устроишь свою судьбу лучше, чем устроил бы я. Оставайся и живи, как знаешь. Пусть тебя другие, как хотят, судят, я же тебе не судья. Вижу, что ты честная девушка и ничего бесчестного не то что сделать, даже подумать не в состоянии… Тем хуже для тех, кто будет тебя порочить! А плохо тебе придется – напиши: чем могу – словом ли, деньгами ли, всегда выручу… А завтра приходи в город, я тебе кое-что хорошее скажу…
Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре, над золотым потопом ржи.
Когда пред Чилюком поднялись из-за кудрявой рощи красные кровли отцовской усадьбы, ему стало не по себе. Он не поверил тому, что Катя говорила о смерти матери, но провести ночь под одной крышей с Александрой Кузьминишной, после этого рассказа, показалось ему невыносимо гадким… Едва ступив на крыльцо дома, он уже распорядился, чтоб ему готовили лошадей в город. Николай Евсеевич по лицу сына угадал, на чьей он стороне, и сконфуженно развел руками… Александр Николаевич коротко передал ему подробности своего свидания с Катей, свое намерение помочь ей деньгами и заключил:
– А от вас, папа, прошу одного: оставьте вы ее совсем в покое, не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтоб иметь право на вмешательство в ее жизнь…
– Воля твоя… я этого не понимаю, – бормотал старик, – ты сочти, сколько жертв она приносит: выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества… и для чего же? Для благосостояния, комфорта, покоя? Нет, для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас, в хате… Черт знает какие люди на свет родиться стали!.. И… извини меня: ты мне еще чуднее Кати. Ее странность я могу объяснить хоть тем, что ее мать била по темени аспидной доской. Но ты – сильный, неглупый, образованный человек – и вдруг вторишь этой безумной. Ради чего? Что ты находишь в ней отрадного?
– Видите ли, папа, – перебил Александр Николаевич, – семья, в которой житья нет, общество, членом которого имеешь право быть, но не имеешь возможности, и сословие, значения которого не понимаешь, – вовсе не такие драгоценности, чтоб от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло – она и ушла. Вы говорите о покое… Покой хорош только как отдых, его знают только те, кто устает. Люди не работающие знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенения жутко. Вырвется она за его границы и уйдет, куда попало – все равно, на счастье или на несчастье, лишь бы и то, и другое было свое: добытое своею волею, своими руками, своей головой. Ведь только это-то и называется жить. Я знаю это, потому что на себе испытал. И не пробуйте понимать чужого счастья – не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю, и мне ее как-то жалко, а между тем я видел ее искренно счастливою. Оставьте ее!.. Кроме вреда, мы с вами ничего ей не принесем… Она не наша – своя! Пусть же эта чудачка и счастлива будет по-своему.
Примечания
1
Импровизация (лат.).
2
Как крестьянка (фр.).
3
Дорогой… И говорят, наконец… любовник (фр.).