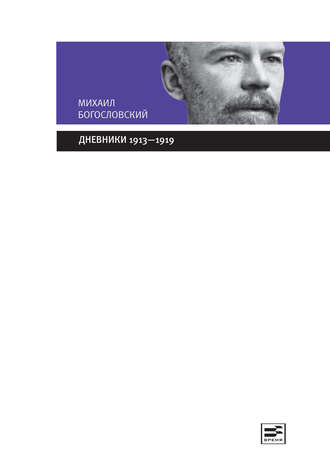
Полная версия
Дневники 1913-1919
И вслед за тем едва ли не единственная запись в этом дневниковом массиве об особой актуальности занятий биографией Петра Великого именно в это время и значимости такой работы для развития исторического знания и общественного самосознания россиян в будущем. Приведем полностью начальную часть записи 25 октября. «Среда. Утро за работой над Петром. Биография Петра получает для меня новый смысл: в то время, когда мы так позорно отдаем все то, что при нем приобреталось с таким упорным трудом и с такими потерями, отрадно остановиться на этих славных страницах нашего прошлого, когда Россия проявляла в Петре свою бодрость, энергию и мощь. Это была не дряблая, гнилая, пораженная неврастенией и разваливающаяся Россия, которую мы теперь видим. Может быть, если моя работа когда-либо увидит свет, она будет небесполезна в годину унижения и бед, показывая нашу славу в прошлом. Может быть, она посодействует нашему возрождению, внеся в него крупицу здорового национального чувства. Но это, конечно, мечты» (подчеркнуто мною. – С. Ш.). Знаменательно, что такое именно признание, по существу предопределившее и объясняющее позицию Богословского-историка в последующие годы советской власти, сделано было именно в день Октябрьского переворота, когда ученый осознавал уже масштаб и направленность происходившего в столице, и возможные последствия этого для России (ибо прямо вслед затем написано: «События в Петрограде развертываются. Восстание началось открыто…»).
Дневниковые записи Богословского за 1916 год и особенно за 1917 г. становятся уникальным историческим источником, позволяющим проследить в развитии, причем буквально изо дня в день, общественно-политические настроения московской элитарной интеллигенции с обострением революционной ситуации. Запечатлены слова и мысли и видных тогда политических деятелей (не только Москвы, но и Петрограда), не выявленные пока в других исторических источниках. Изучение этих ценных данных должно стать темой специального исследования. И можно не сомневаться в том, что цитаты из публикуемого дневника окажутся в разнообразного жанра сочинениях о России и особенно Москве в революционном 1917 году.
Это – дневник не столько историографа, желающего, чтобы составилось определенное представление о нем как видном историке своего времени, а историка, более всего заинтересованного в том, чтобы сохранилось объективное представление о времени его жизни, о России этих лет.
* * *Конечно, дневниковые записи Богословского содержат информацию, важную для занимающихся проблемами историографии. И тут тоже обнаруживаются поразительные конкретность и ясность исторического мышления, умение обозначить приметные детали явления и на основании этого создать цельный и значимый образ его.
Предмет историографии предопределяет многообразие задач и интересов историографа. Это – и изучение накопления знаний, а следовательно, и освоения исторических источников, расширения источниковой базы историка; изучение развития методики источниковедческого исследования; изучение развития исторической мысли, т. е. осмысления исторического процесса в целом и в частностях, что включает, естественно, характерные черты проблематики исторических трудов, истолкование исторических явлений, отражение изменений в методологии и методике исследования; история создания и бытования исторических трудов, влияние явлений общественно-политической жизни, науки, культуры на творчество этих лиц; история научных учреждений, учебных заведений и общественных объединений, занятых разработкой вопросов истории и хранилищ памятников истории и культуры; воздействие исторической мысли на общественное сознание[10].
Дневники Богословского – уникальный по богатству резервуар разнообразной историографической информации. Там множество конкретных фактов и имен, суждений, существенных для историографа, и наблюдения более общего характера. И если в соображениях такого рода собственно исторических Богословский опирается на обширные познания о прошлом и опыт осмысления и изложения хода истории в своей профессорской деятельности, то соображения историографического плана свидетельствуют о всесторонней эрудиции в сфере научной литературы – и предшествовавшего времени, и новейшей – и об опыте размышлений и о приемах и результативности труда и исследователя, и преподавателя.
Богословский – убежденный сторонник крепкой организации властвования, консерватор в своих понятиях о жизненном укладе (и в бытовом обиходе, и в государственном масштабе), был поборником новаторства в сфере научной работы – и исследовательской, и преподавательской. Однако новаторства основательного, опирающегося на овладение приемами «ремесла» историка, серьезную источниковую базу и являющегося результатом больших трудовых усилий.
Главным своим делом историка в те годы Богословский считал создание «Петриады» (как он, используя литературный шаблон XVIII века, называл иногда готовящуюся фундаментальную биографию Петра Великого). Богословский занят был «Петриадой», неустанно работал в охотку, но, видимо, далеко не все получалось при писании с первого раза – 1 июня 1916 г., переехав на дачу и вернувшись к прерванной работе, заметил: «Трудно заводить эту машину после перерыва. Пришлось многое перечеркнуть и переделать». Ученый сетовал на то, что вряд ли хватит сил и времени завершить задуманный труд и приходится отвлекаться другой работой. Об этом много в записях разных месяцев: 17 февраля 1916 г. записывал: «Занимался очень интенсивно Петром… Наконец-то дорвался до возможности заниматься наиболее интересным для меня делом»; 3 марта 1916 г. запись: «Наконец, я вернулся к Петру. И, как всегда при таких возвращениях, разводить остывшие котлы и приводить в ход остановившуюся машину бывает нелегко». А уже 28 апреля того же года отмечает: «Началась моя страда – чтение кандидатских академических сочинений (т. е. сочинений выпускников Московской духовной академии. – С. Ш.) с горьким сожалением о необходимости на некоторое время прервать работу над Петром». Схожие формулировки повторяются не раз. В записи 23 ноября 1916 г. даже такой возглас: «…главное, досадно отрываться от Петра. На каждом шагу препятствия для работы! Хорошо бы уйти в какую-нибудь келью и работать над биографией в иноческом затворе».
На самом же деле Богословский не мог ограничиться занятиями своей «Петриадой». И отнюдь не потому только, что обязан был, как ответственный и заботливый глава семьи, обеспечивать ее материально. Историк ощущал потребность в атмосфере общей научной жизни – в общении с коллегами-профессорами и теми, в ком видел «будущих профессоров», в ознакомлении с широким кругом научной проблематики, не мог сосредоточиваться надолго лишь на определенной исторической тематике. Широта научных интересов, отзывчивость на новую мысль в основе его творческой натуры. Не способен он был и оставаться безучастным к происходившему в общественно-политической жизни. Человек большого ума и редкостной исторической памяти, Богословский был человеком искренней религиозности и большой души с внутренним убеждением в своей обязанности общественного служения. Высокое чувство собственного достоинства, врожденные доброта и деликатность не позволяли ему делать что-либо без должной ответственности, кое-как, и уклоняться от ожидаемого от профессора, и в то же время побуждали его к прямоте в выражении своего мнения (и публично, и в дневнике), даже если оно не во всем благоприятно и о близких и симпатичных ему историках своего же круга.
В записях подкупает столь нечастая в среде так называемой «творческой интеллигенции» способность радоваться чужим достижениям, вхождению в клан ученых молодых и многообещающих. Не только нет проявлений завистливости, но даже, так сказать, местнических понятий и, соответственно, ощущения что в чем-то обойден и недооценивают твои заслуги. При этом сам Богословский замечает это в поведении даже особо уважаемых им коллег – в этом плане любопытно написанное о С. Ф. Платонове, которого не включили в Особую комиссию Русского исторического общества, организованную для празднования юбилея Александра II: в описании заседания Общества: «с этой минуты лицо Платонова приняло насмешливо-скептическое выражение, хранившееся им до конца заседания» – запись 24 мая 1916 г.; о том, что Платонов «очень уязвлен» этим (и, видимо, шел разговор на такую тему при посещении квартиры Платоновых им и Любавским) – в записи 25 мая. В записях Богословского не заметно ни мелочной обидчивости, ни выпячивания своей роли, и, конечно же, ни чванства, ни злорадства.
В описании проявлений благодарственного отношения к нему студентов и особо уважительного коллег-профессоров весной 1917 г., когда Богословского временно «отрезали» (по его определению) от Университета, обнаруживается не только душевная растроганность, но и некоторое недоумение. Правда, в записи 26 апреля, на следующий день после избрания Богословского снова профессором, причем единогласно (а это – как отметил 25 апреля – «случай редкостный»), с некоторой горечью зафиксировано: «В газетах ни звука о вчерашнем факультетском избрании. Мне всегда удивительно несчастливилось на газетные известия. Редко когда какое-либо из моих выступлений отмечалось. Так и теперь. Об увольнении моем было сообщено несколько раз; а о единогласном избрании не сообщается».
Отсутствует и самолюбование, хотя и ощущается потребность подчеркнуть правильность своего поведения в случае, когда в обществе не установилось общепринятого мнения – так, 12 марта 1917 г., после того как он и другие профессора, назначенные после 1905 г., были уволены из Университета, коллегам, собравшимся для редактирования «Исторических известий», счел нужным заявить: «…совесть моя чиста и ни в чем меня не упрекает. В 1911 г. я остался в Университете, потому что считал уход совершенно неправильным и прямо не мог уйти: я поступил бы, если бы ушел, против совести», и тем самым, заняв кафедру, «сохранил для московской кафедры традиции главы нашей школы В. О. Ключевского, сберег (это слово написано вместо зачеркнутого «сохранил». – С. Ш.) их в чистоте и этим имею право гордиться».
Редкостно работоспособный историк с подлинной ответственностью относился ко всякому исполняемому им делу и не склонен был лишь «значиться» занимающим какое-либо видное положение. Показательна запись 16 февраля 1916 г. о предложении возглавить Археографическую комиссию при Археологическом обществе: «…наотрез отказался, сославшись на множество и тяжесть дел, когда сказали, что я могу и не действовать активно, а нужно – имя, я ответил, что иконой мне быть еще рано и что я должен еще работать».
Выявленные А. В. Мельниковым воспоминания об историке теперь можно рассматривать в контексте с его дневниковыми записями, и становится еще более понятным, что особое уважение вызывали и притягивали к Богословскому не только его эрудиция, научная одаренность, занимаемое им положение в мире науки и в московском обществе, но и привлекательные достоинства его личности.
Записи Богословского очень информативны, но обычно немногословны, без претензий на эффектную красивость. Здесь те же отмеченные академиком С. Ф. Платоновым в некрологе Богословского «свойства простоты и безыскусственности, которые так талантливо сказывались в его ученых произведениях»[11]. Во всем скромность и внутреннее достоинство.
В Дневнике немало наблюдений, помогающих составить представление о видных деятелях науки и политиках той поры, особенно о манере поведения, стиле речи его коллег по преподаванию (иногда и малоприятных для них). Подмечал Богословский и ценил и остроумие собеседников (а также и выступавших с докладами и в прениях). И особо понравившееся записывал для памяти – 4 октября 1917 г. профессор философии Л. М. Лопатин при встрече с тонким остроумием сказал: «Я и не думал, чтобы русский народ был до такой степени монархичен. Как только монарха не стало – всякий образ и подобие потеряли!» (подчеркнуто автором).
Научные заседания, защиты диссертаций – явно интересовавшая его сфера жизни. Историк готовился к ним, знакомясь с новой литературой по теме и перечитывая ранее известную ему. Для него праздником становились особенно удачные заседания, доклады, и, сдержанный обычно в выражении своих чувств, он эмоционально передавал впечатления. Особенно если открывал для себя даровитость молодых ученых. Даже в волнующее политическими обстоятельствами время, когда доклад В. Ф. Ржиги о Максиме Греке оказался «очень интересен и подал повод к оживленным прениям», написал: «Мы все оживились в возникшем споре, и заседание надо признать на редкость удачным» (запись 5 октября 1917 г.). Вероятно, небезлюбопытно было бы проследить, что и в какой связи Богословский писал о своих современниках, вызывающих и поныне интерес историков.
Богословский скуп на пространные характеристики каких-либо лиц, но обычно указывает на черту, во многом определяющую существеннейшее в человеке. Так, он написал о М. К. Любавском, отметив, что тот «сделал весьма здравую характеристику» историка В. И. Герье: «У Любавского вообще много здравого великорусского смысла, и это лучшее свойство его ума» (запись 3 декабря 1915 г.). И Богословского коробило то, что на заседании памяти академика Е. Ф. Корша «был обрисован Корш – лингвист, ориенталист, знаток литературы, классик и т. д. Но совершенно остался не изображенным Корш как цельная личность: и отдельные характеристики остались не только не объединенными, но и не связанными» (запись 17 февраля 1916 г.). Сам Богословский сумел, узнав о кончине профессора Московской духовной академии историка церкви С. И. Смирнова, дать емкую характеристику и личности покойного, и значения такой утраты: «Ушла научная сила из Академии, редкая среди того хлама, который ее наполняет. Честный, прямой и добрый человек, талантливый труженик и строгай хранитель традиций, оставленных его учителями Голубинским и Ключевским» (запись 6 июля 1917 г.).
Известно, что у Богословского установились дружественно-доверительные отношения в 1920-е гг. с академиком С. Ф. Платоновым. В наибольшей мере благодаря Платонову он стал 4 декабря 1920 г. членом-корреспондентом Академии наук и уже через четыре месяца, 2 апреля 1921 г., академиком. Платонов, приезжая в Москву, стал останавливаться у Богословских, а Богословский, оказываясь в Петрограде-Ленинграде, – в квартире Платоновых. О близости двух самых выдающихся в те годы историков России свидетельствует их переписка (более пятисот писем), некролог, написанный Платоновым, даже следственное дело Платонова (1930–1931 гг.)[12]. Такое сближение закрепилось в послереволюционные годы, но дневник Богословского помогает уяснить предпосылки этой редкостной дружбы. В 1911 г. Богословский не оказался еще в ряду московских историков, принявших участие в сборнике к юбилею Платонова, подобно ученым его круга С. Б. Веселовскому, Ю. В. Готье, М. К. Любавскому, А. И. Яковлеву. В дневнике 1915–1917 г. о Платонове упоминается чаще, чем о ком-либо из иногородних историков, и неизменно уважительно – и о встречах в Москве и Петрограде, и об общественном настрое Платонова, и о письмах к нему и его. Показательно и то, что зафиксировано о разговоре при посещении в Петрограде академика А. С. Лаппо-Данилевского с хозяином квартиры и тоже пришедшим к нему членом Государственного совета бароном Икскуль-фон-Гильденбандтом: «Досталось также и Платонову; но так как я при попытке его бранить хранил упорное молчание, то выпады против него не были продолжительны» (запись 25 мая 1916 г.). Выразительно оценочного характера запись 19 января 1916 г.: «Получил открытку от С. Ф. Платонова в ответ на посланный ему оттиск статьи о Судебнике: „Многоуважаемого М. М. очень благодарит за присылку ему статьи об Устьянском кодексе преданный ему С. Ф. Платонов“. Последними словами об „Устьянском кодексе“ дается мне понять, что прочел статью. Какая завидная вежливость и какая тонкость!» (В статье 1915 г. «Еще к вопросу о Судебнике 1589 г.» Богословский обосновывал мысль о составлении его в Устьянских волостях и отражении в нем правовых норм Северного Поморья.)
Думается, что не только печатные труды Платонова, но и его устная речь соответствовали представлениям Богословского о талантливом ученом: «Признак таланта – умение изложить самую сложную вещь в самой простой и ясной форме» (Это написано Богословским 13 декабря 1915 г. после того, как математик, профессор Университета П. К. Млодзеевский «изложил» ему одну из теорий высшей математики «с большим воодушевлением… замечательно просто, ясно и красиво»).
Сопоставляя дневниковые записи Богословского с письмами Платонова (опубликованными в первом томе издания «Академик С. Ф. Платонов. Переписка с историками», вышедшем в 2003 г., и с подготовленной к печати перепиской Платонова с Богословским и А. И. Яковлевым для второго тома этого издания), обнаруживаем несомненную близость суждений и вкусов обоих историков и в сфере исторической науки и преподавания в высшей и средней школе, и в общественно-политических воззрениях, даже, если можно так выразиться, в историко-культурных пристрастиях: в любви к облику старинных древнерусских городов, к усадебной культуре дворянских гнезд. Обоим свойственно и возрастающее с годами преклонение перед Пушкиным – об этом и в дневнике, в записи 13 января 1917: «Вечером читал Мине "Капитанскую дочку" с величайшим наслаждением. Чем больше и больше читаешь Пушкина, тем больше удивляешься колоссальности этого дарования. На закате жизни он еще более нравится, чем в юности». Эта мысль будет повторена в 1920-е гг. Поздравляя Платонова с тем, что он стал во главе Пушкинского дома, Богословский писал ему 6 марта 1924 г.: «…С каждым годом жизни все более и более люблю Пушкина и все пушкинское. Отдыхая у Вас (т. е. в квартире Платонова. – С. Ш.) с величайшим наслаждением перечитал некоторые его стихи, найдя в них все новые и новые красоты, прежде не замеченные, потому ли, что их пропускал случайно или потому, что для каждого возраста в нем открываются свои красоты, не заметные для возраста более молодого»[13]. Платонов же во второй половине 1920-х гг. не только способствовал изданию пушкинского наследия, но и напечатал статью «Пушкин и Крым» и книжку краеведческого уклона «Далекое прошлое Пушкинского уголка, Исторический очерк». Богословского интересовало и восприятие Пушкина в прошлом: 25 сентября 1915 г. отмечено, что вечером читал с А. П. Басистовым письмо о Пушкинских торжествах 1880 г. (Друг его юности, Басистов, был сыном видного педагога, члена комитета по организации пушкинского праздника в Москве в связи с открытием памятника.)
Богословский испытывал потребность знакомиться с новейшей литературой и не только по отечественной истории, но и всеобщей, а по тематике, близкой к его профессорским занятиям, считал своим долгом. Полагал нужным обратиться и к литературе прежних лет, если в свое время не сделал этого.
Богословский почти всякий раз указывал, что читал в вечерние часы – чаще всего это была новейшая научная литература. Характеристики и оценки прочитанного обычно лапидарны: больше о произведенном впечатлении, причем почти в одинаковых выражениях в дневниках 1915–1917 гг. и 1919 г. Но иногда, зафиксировав первое впечатление, возвращался к характеристике той же книги, уточняя ее: подчас усиливая негативное в оценке или, напротив, выявляя привлекательное, свежее, ранее им не отмеченное.
Любопытны суждения о книге М. Н. Покровского «Очерки истории русской культуры» (том первый куплен был им 24 октября 1915 г., что отмечено в Дневнике). Богословский одновременно с ним обучался у В. О. Ключевского, посещал домашние семинарии профессора всеобщей истории П. Г. Виноградова. В записи 14 ноября: «Вечер за книгой М. Н. Покровского… где много остроумия, знания, легкомыслия и марксистского схематизма». 16 ноября – о Покровском: «распластывается в ней по заранее заготовленным шаблонам, весьма банальным»; а в записи 19 ноября как бы суммирующее заключение: «…все оригинальное и индивидуальное: люди, события и идеи – стерто, и показываются только одноцветные, одинаковые для всех времен и народов классовые шаблоны». Тут явное противопоставление приемов подхода к историческому материалу и толкованию его – конкретно-исторического метода Богословского, устанавливающего в каждом историческом явлении и общее и особое, индивидуальное, и ищущего тому объяснения, и схематизма методики Покровского, достигшего в советские годы уже вершин вульгарного социологизма с примесью дешевого политиканства в книгах «Русская история в самом сжатом очерке» и в лекциях «Борьба классов и русская историческая наука», вышедших отдельной книгой в 1923 г.
Богословский строго судил сочинения и манеру поведения и близко знакомых ему историков из постоянного круга своего общения. Так, о труде С. Б. Веселовского в двух томах «Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства» отзывался «с досадой»: «…И во II томе он то же, что и в первом. Из-за мелочей нет представления о главном, из-за деревьев не видно леса. Умеет изображать только приказное делопроизводство и не способен на более широкий размах. Нет полета мысли, копается в скрепах и справах…» (запись 28 июля 1916 г.). На следующий день, 29 июля: «Прочел 5 листов Веселовского, все более убеждаясь в том, что не способен к конструкции книги. Его книга – это комментарий к трем томам Актов писцового дела, не Акты – приложение к книге, а книга – комментарий к Актам» (имеется в виду издание «Акты писцового дела Московского государства для истории землеустройства и прямого обложения в Московском государстве 1587–1649»). 7 августа снова запись: «Я кончил чтение книги Веселовского. Заключительная глава, которая должна бы, подводя итоги, давать резюме, вкратце излагать всю книгу– образец неясности».
Возвращается – и несколько раз – к книге историка, близкого и по университетскому и по домашнему общению А. И. Яковлева «Приказ сбора ратных людей». Богословский полагал, что Яковлев за свои заслуги и в научной и в преподавательской работе, безусловно, достоин получить докторскую степень, но тема для докторской диссертации выбрана незначительная, особенно для ученого такого дарования. 26 августа 1916 г., «вернувшись в Москву» и застав подаренную ему книгу, написал о ней как о «неоконченной». 29 августа отмечает: «Начал читать диссертацию Яковлева, и она стала меня подкупать рассыпанными там блестками таланта». 2 сентября передает разговор с зашедшим к нему Ю. В. Готье об этой диссертации: «Вот пример гибельного влияния Веселовского на Яковлева. Ну стоило ли тратить столько времени и сил на этот ничтожный Приказ сбора ратных людей, о котором написана его диссертация! Ведь это предмет для небольшой статьи – не более того». 24 сентября по прочтении книги Р. Ю. Виппера «История Греции»: «Приветствую такую книгу общего характера, на которой отдыхаешь после чтения специальных монографий». И уже непосредственно о книге Яковлева «Прекрасная вылитая по последнему слову артиллерийского искусства пушка, скорострельная и сложная, палит по ничтожному воробью. Бывают покушения на хорошие цели с негодными средствами, а здесь покушение с великолепными средствами на ничтожную цель».
Еще жестче и откровеннее оценки трудов более молодых историков. Не раз Богословский выражал недовольство книгой киевского историка А. М. Гневушева о новгородском населении в XV в., по писцовым книгам – «громадный том с таблицами, и таблиц больше, чем текста». Судя по его же записи 28 октября 1916 г., даже «резко несдержанно отозвался о таком способе писания». И именно в этой связи наблюдения историографа о новейших трудах (видимо, не только учеников киевского профессора М. В. Довнар-Запольского, но и некоторых своих младших коллег по Московскому университету): «Во всех этих огромных томах по русской истории редко встретишь не только мысль, но и хоть бы мысленку: все материалы и материалы, мелочь, гробокопательство. Досадно! Маленькая книжка С. М. Соловьева, статья К. С. Аксакова были куда более значительны, чем теперешние фолианты, в которых печатаются груды сырья, по большей части ни на что не нужного». Возможно, в этих словах прорвалась досада Богословского и на самого себя, поскольку он, написав монографического масштаба дипломное сочинение о писцовых книгах, так и не обработал эти материалы хотя бы в статью постановочного плана.
Богословский позволял себе формулировать и очень резкие отзывы, даже о написанном авторами, получившими признание в академических кругах – так, об избранном в 1912 г. членом-корреспондентом Академии наук профессоре Новороссийского университета (в Одессе) И. А. Линниченко написал 20 декабря 1915 г.: «Прочел пошлейшую брошюру, присланную мне Линниченко о Перетятковиче. Нет Гоголя, чтобы изобразить эту провинциальную профессорскую тину». К Линниченко у него было устойчиво негативное отношение, сложившееся еще в студенческие годы, когда ему не понравилась его манера чтения лекций (лекциями по истории Польши «именно учил тому, как не надо читать лекции», писал Богословский 20 октября 1915 г. вспоминая то время).
Чаще всего находим краткие, даже кратчайшие оценочные формулировки: о книге Б. Д. Грекова «Новгородский дом св. Софии. Опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины» – «превосходная книга» (запись 24 мая 1916 г.); о книге И. В. Попова «Личность и учение блаженного Августина» – «книга, которую читаю с наслаждением» (запись 18 мая 1917 г.); об оттиске статьи А. Н. Савина «Два манора», «превосходно, точно, ясно и красиво написанной» (запись 19 апреля 1916 г.). 20 августа 1916 г. написал о чтении «очень интересной книги»









