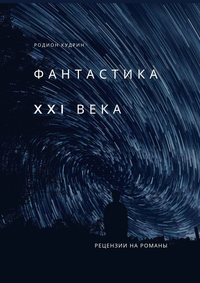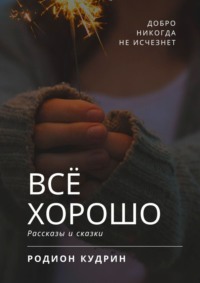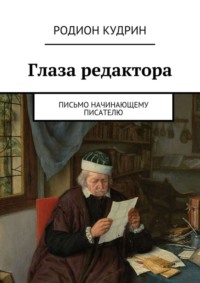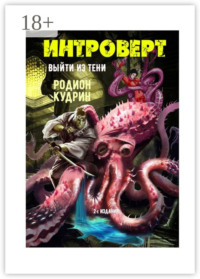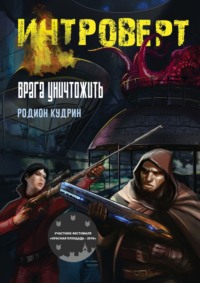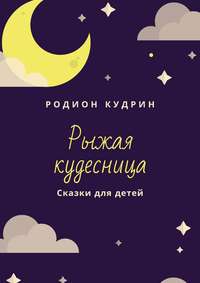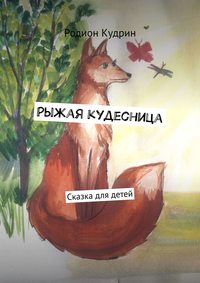Эмоциональный интеллект человека-оператора. Монография
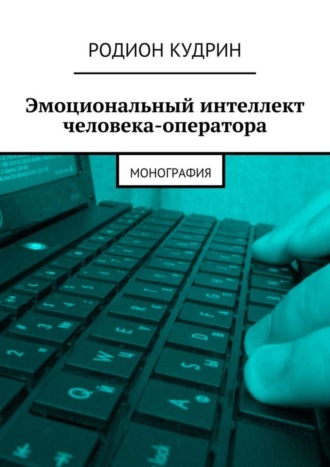
Полная версия
Эмоциональный интеллект человека-оператора. Монография
Жанр: учебная и научная литературамедицина / здравоохранениебиологияобщая биологияпрочая образовательная литературамедициназнания и навыкибиология и химияздоровье и медицина
Язык: Русский
Год издания: 2016
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу