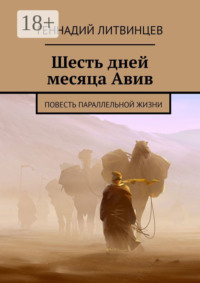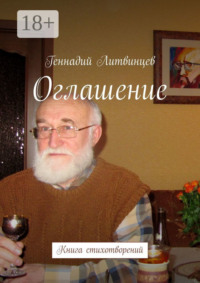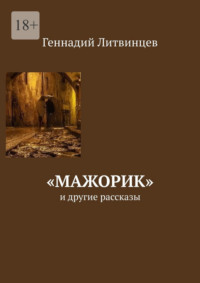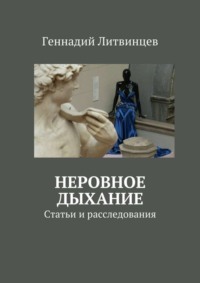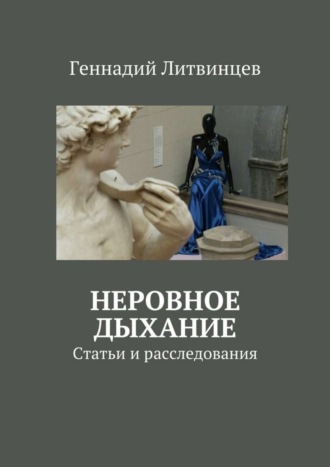
Полная версия
Неровное дыхание. Статьи и расследования
– Ваш город центральный в России, очень своеобразный, можно сказать, узловой, – говорил Солженицын в мэрии. – И мне важно узнать, что тут у вас происходит, какие у людей настроения.
Приглашенные городские чиновники выступали в привычном жанре отчетов перед начальством: всё хорошее объясняли своим персональным усердием, неудачи и трудности сваливали на «отсутствие законов и общее неустройство». Александр Исаевич хмурился, но старательно строчил что-то в блокноте.
На другой день состоялась встреча с жителями города. Солженицын поставил условие: пускать всех, без всяких ограничений. Огромный зал был полон. Писателя встретили аплодисментами. А вот между собой штатные активисты не терпящих друг друга течений не смогли поладить и на вечере: захлопывали выступающих, кричали, шумели. Дошло до драки на сцене у микрофона. Александру Исаевичу пришлось вставать и растаскивать сцепившихся двух ораторов, как, наверное, в лагере, бывало, разнимал подравшихся зэков.
– Вот пример того, как мы распустились за семьдесят лет, – сказал с укоризной писатель. – Давайте же слушать и стараться понимать друг друга, чувствовать себя соотечественниками.
Немало горьких и справедливых слов сказал он в заключительной речи о нравственном состоянии нашего общества, о том, что мешает подлинному духовному и экономическому возрождению страны. Для того, чтобы понять суть воронежского выступления Солженицына, следует вспомнить атмосферу того времени, наэлектризованного острейшими политическими и идейными схватками, разрядами столкнувшихся друг с другом социально-экономических систем – старой и нарождавшейся новой, глухим недовольством народа начинавшимся криминально-олигархическим произволом, «прихватизацией» всего и вся, в том числе и самой «демократической» власти.
Возвращение Солженицына стало для ельцинского окружения нелегким испытанием. Писатель поставил несколько принципиальных условий. Он приедет – но не раньше, чем «Архипелаг ГУЛАГ» будет напечатан массовым тиражом. Он приедет – но прежде окончит «Красное Колесо», работу всей жизни, то есть «живо и бережно уберет свой урожай». Он приедет – но прежде с него должны публично снять позорное обвинение в измене.
«Солженицын показал пример несуетного поведения в момент наивысшего общественного нетерпения, и потому его физическое возвращение домой пришлось как раз вовремя: остыла горячка ожидания („приедет“, „возглавит“, „рассудит“), осталось позади опьянение гласностью, рассеялся псевдодемократический туман. На смену романтической, хмельной эпохе пришли продажность и цинизм. Самое время, чтобы заговорить о национальном самосознании, исторической памяти, моральной ответственности; самое время, чтобы начать кропотливую работу», – пишет Людмила Сараскина, автор наиболее основательной биографии нобелевского лауреата.
Однако не о «национальном самосознании» думалось новым хозяевам жизни, всякое напоминание о «моральной ответственности» было им как острый нож к горлу. Сама перспектива присутствия в стране писателя, призывавшего «Жить не по лжи!», многим отравляло существование. «Жить не по Солженицыну!» – такой «альтернативный» девиз накануне приезда писателя бросила в массы одна из столичных газет, выразив тем самым жажду «новых русских» действовать и дальше без оглядок на мораль, с правом на бесчестье, так, чтобы вокруг никто и ничто не посмело колоть глаза.
«Является в Россию безнадежно устаревший протопоп Аввакум, вермонтский Вольтер! А кому он, в сущности, нужен? Время Солженицына прошло. В нафталин его! И на покой». Подобное яростное шипение либеральных СМИ не один раз придется услышать Солженицыну в первый год своего возвращения. Самые известные перья заявляли публично, что ни в коем случае не станут ни единомышленниками, ни соратниками, ни придворными Солженицына. Ждали и боялись, что явится стране подлинно моральный авторитет, действительно совесть нации, обнаружив тем самым духовное и идейное убожество партии власти. И еще неизвестно, какое знамя подымет, какую партию создаст и возглавит, с кем пойдет на выборы или даст выдвинуть себя – подобные гадания стали привычными для журналистов и политических аналитиков. Нашелся такой из них, что возмутился даже средством передвижения: «В Россию нельзя возвращаться на самолете или на поезде. Если уж Солженицын взвалил на себя ношу пророка, надо было возвращаться пешком».
Разумеется, раздавались и другие голоса – лучших людей России. «Как будет выглядеть на фоне бойко тусующихся „пародистов действительности“ огромный человек, который перерос литературу и сам стал героической действительностью ХХ века?» (Евгений Евтушенко). «Приезд Солженицына – настоящий праздник для всех нас. Сам он, его жизнь и то, что он приезжает, – настоящее Чудо Божье» (Иннокентий Смоктуновский). «Счастлив, что мое преображающееся Отечество может вернуть народу своего великого изгнанника. Думаю, что Александру Исаевичу будет у нас интересно…» (Марк Захаров). «Он возвращается ни к правым, ни к левым, а в Россию. И думаю, что он употребит свой огромный мировой авторитет на поддержку России национальной и самостоятельной» (Валентин Распутин).
Однако новостные телепрограммы держали страну на голодном пайке – мы не видели ни встреч, ни пресс-конференций. Секундные включения, невнятные сообщения – и предвзятые комментарии ведущих: «Есть ли повод для ажиотажа? Приезжает пожилой человек, книги которого лежат в магазинах и большим спросом не пользуются». «В Россию возвращается русский националист», – встревожено объявили «Итоги».
Следуя по Транссибу, Александр Солженицын выступал в особом, «вечевом», по слову Бориса Можаева, жанре. 55 дней он обращался к людям с просьбой выйти и сказать о главном – что нужно сделать для возрождения страны, для улучшения их жизни. Обычно выступало человек пятнадцать-двадцать. И только потом слово брал сам писатель. Постепенно втягиваясь в проблемы, он все более загорался, говорил образно, горячо. Мигом пролетали два-три часа захватывающего действа. «По сравнению с ними заседания нашей думы – жалкий и скучный лепет младенцев», – писал один из сопровождавших Солженицына журналистов.
Очевидцы и участники общения Александра Исаевича в российской провинции свидетельствовали об обоюдном дружелюбии встреч, о многих тысячах людей, приходивших услышать слово писателя. Ему жаловались, его упрекали, его побуждали выступать, от него требовали объяснений, но все происходившее было подлинным, от души, без глума и зубоскальства. Русская провинция оказалась той самой аудиторией, с которой можно было говорить на одном языке. Солженицын назвал его языком боли.
«Что слышно об Александре Исаевиче?» – такой вопрос, говорят, Ельцин задавал каждое утро. И однажды добавил: «Солженицын будет на нашей стороне, он мощное оружие». Но первые же шаги писателя по русской земле поставили президента в тупик.
Патриот и антикоммунист, Солженицын говорил правду без оглядки на власть и оппозицию, называл режим «мнимой демократией», ставил тяжелейший диагноз: «Россия сегодня в большой, многосторонней беде. Стон стоит. Деревня работает бесплатно. Крестьянство по-прежнему во власти колхозно-совхозного начальства. Сельское хозяйство может иссякнуть. Врачи и учителя работают уже по инерции долга. 63% населения или бедны, или нищие. Людям не во что одеться, ходят в старом запасе. Двух буханок хлеба в день уже не купить, нельзя поехать к родным даже на похороны. Позвонить в другой город, другую республику – месячный заработок. Рождение ребенка – подвиг, почти безрассудство. Вымирают люди среднего возраста, людей низа выбросили из жизни. Москва отвернулась от России». На встрече в Москве: «Народ у нас сейчас не хозяин своей судьбы. А поэтому мы не можем говорить, что у нас демократия. У нас нет демократии. Демократия – не игра политических партий, а народ – не материал для избирательных кампаний».
1994-й, напомню, был первым годом, когда страна жила по новой Конституции, когда президент победил всех своих врагов, и ему уже не мешал Верховный совет. Но радости от того у населения не прибавилось: шла нахальная «прихватизация», отстранившая народ от созданной им собственности, порождавшая олигархию, финансовые пирамиды, залоговые аукционы, жуликов неслыханно крупных размеров, захваты и переделы, заказные убийства и прочие отличительные признаки дичайшего капитализма. Под хохот и улюлюканье победителей и их политической и журнально-эстрадной обслуги страна катилась к неведомой бездне, а Солженицын, способный видеть дальше и глубже, начал писать книгу «Россия в обвале».
И на юге России, куда Александр Исаевич отправился с женой после непродолжительного обустройства в Москве, и позже у нас в Воронеже, он продолжал «секретарствовать», то есть слушать людей и записывать их вопросы. «Я сейчас объезжаю страну, чтобы лучше понять ее общие и местные проблемы, потому прошу вас поднимать вопросы не личного, но общего значения, имеющие интерес для всей России», – говорил Солженицын. Зал поначалу терялся, повисало тягостное молчание, затем публика понемногу освобождалась от скованности и тянулась к микрофонам. «Я не раз повторял и продолжаю повторять: в возрождение России я верю, и произойдет оно тогда, когда сорок самых крупных старинных городов России будут иметь такой же культурный потенциал, как Москва», – говорил он.
В вестибюле воронежской гостиницы «Дон» Солженицын устроил общественную приемную, где несколько часов принимал людей с просьбами, бедами, вел задушевные разговоры о будущем и насущном. Каждый день выслушивал по 25—30 человек. Как не похожи были его встречи на модные в годы перестройки поездки «прогрессивных писателей» к простому народу или на «концерты» популярных экономистов в лучших залах столицы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.