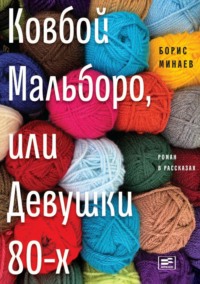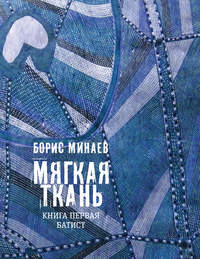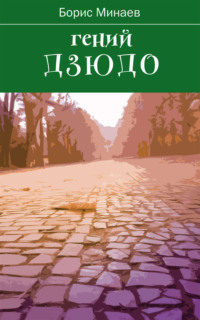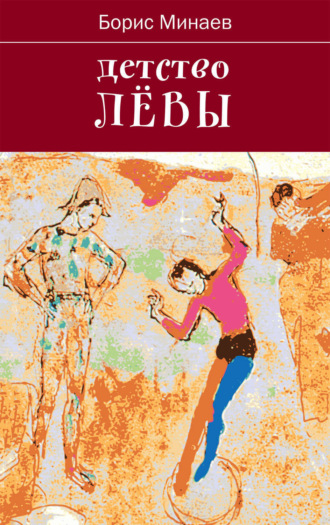
Полная версия
Детство Лёвы

Борис Минаев
Детство Лёвы
Об этой книге
Проза Бориса Минаева – нормальная детская классика. К этому надо привыкнуть уже сейчас, даже если кто-то не верит, что классику будущего пишут сегодня. Уверяю вас, дети двадцать первого века – счастливые последствия демографического подъема, к которому нас призывают, – будут читать «Детство Левы» и «Гения дзюдо» наравне с «Денискиными рассказами», трилогией «Дорога уходит вдаль» и похождениями Вити Малеева. Тайна Минаева – и вообще любой хорошей детской книги, не сказочной, а самой что ни на есть реалистической, – в умении воспринимать ребенка как своего рода сверхчеловека. Это не какой-нибудь там недовзрослый, а сверхвзрослый, потому что нормальный двадцати-тридцатилетний человек не вынес бы событий такого масштаба. Его бы это убило. У Кушнера есть стихи о том, что ни один взрослый смельчак не вынесет такого страха, который ребенок выдерживает во время контрольной. Детство – огромное увеличительное стекло. У детства глаза велики. Все события до тринадцати-четырнадцати лет воспринимаешь с десятикратным, а то и стократным увеличением. Друг не позвал на день рождения – катастрофа, у отца болит голова – конец мира, девочка хихикает – предательство. Никакие страсти потом не доводят человека до такого исступления и не оставляют таких глубоких шрамов. Вот про это и пишет Минаев. Его герои – титаны, мученики, борцы, первооткрыватели, спасители человечества, низкие лгуны, великодушные покровители, благородные разбойники. И мир в его книгах так же огромен, каким он бывает в детстве, и только в детстве. Мы ведь любим эту пору и тоскуем по ней не потому, что у ребенка все уж так хорошо. Напротив, его жизнь полна трагедий, подвигов, отчаяния, несвободы и борьбы. Но ценишь-то ведь не счастье, а масштаб, не комфортность, а первосортность. В детстве все самого высшего сорта, потому что в первый раз. Очень немногое – запах осенних листьев, или цвет заката, или голоса во дворе, – способно вернуть нам то чувство масштаба, то есть самое подлинное ощущение детства. Времени, когда все еще было по-настоящему. Вот Минаев каким-то образом это сделал. Он вырос, то есть научился внятно рассказывать о пережитом и передуманном, – но мир вокруг него не уменьшился. Он так до сих пор и существует среди огромных лопухов и жуков, рядом с полубогами-родителями и героями-сверстниками. Поэтому его книгу будут читать и через двадцать, и через тридцать, и через сто лет. Дети – с благодарностью за понимание. Взрослые – с благодарностью за возвращение.
Дмитрий Быков
Далекое – близкое
В детстве меня называли Мамин Хвостик. Это обидное прозвище возникло, можно сказать, само. Я действительно мог ходить с мамой куда угодно, стоять в любой очереди, скучать в парикмахерской и химчистке, лишь бы быть рядом с ней.
Очень мне нравилась моя мама.
Нравилось главным образом то, что рядом с ней я переставал бояться. Ничего мне было не страшно. А вот как только мама куда-нибудь отходила – пробить чек в кассе, или в парикмахерское кресло, – я начинал ужасно беспокоиться: вдруг она куда-нибудь пропадет?
Но она не пропадала – возвращалась всегда вовремя.
Это чудесное мамино свойство очень сильно меня поражало. Иногда, если мы просто шли по улице, я забегал немножко вперед и смотрел на маму издали: как она идет. Шла она тоже очень красиво, постукивая каблучками. И несла легко самую тяжелую сумку. И всегда улыбалась мне издали.
Если мама уставала и ложилась отдохнуть, я тоже забирался рядом с ней. Но долго лежать просто так не мог. Скоро начинал ворочаться, вздыхать. И тогда мама спрашивала меня сонным голосом:
– Ну чего елозишь?
А я отвечал:
– Ничего. Расскажи что-нибудь.
Мама вздыхала, думала.
– Ну что тебе рассказать? – говорила она. – Жил-был волшебник… Построил он однажды дворец. И думает: кого бы в нем поселить?
Я еще больше елозил, только теперь от удовольствия.
– Ну-ка тихо! – говорила мама. – Ну вот, построил он дворец и думает: дай-ка я в нем поселю самого послушного мальчика, который кашу хорошо ест, маме помогает и долго играет один.
…Постепенно становилось темно. Мне очень хотелось, чтобы мама подольше не зажигала свет. Так было лучше – лежать в темноте и слушать сказку.
– Да, – говорила мама. – Искал-искал он такого мальчика, но никак найти не мог. И тогда…
Мама задумывалась.
Я тихонько подталкивал ее в бок.
– Чего толкаешься? – недовольно говорила она. – Я сказку вспоминаю… Знаешь что, давай я тебе лучше стихи почитаю.
– Давай, – тихо соглашался я. Мама редко рассказывала сказки до конца. Обычно они у нее кончались в самом начале. А я привык к этому и не обижался.
– Значит, так, – говорила мама, – слушай:
Как ныне сбирается вещий ОлегОтмстить неразумным хазарам,Их села и нивы за буйный набегОбрек он мечам и пожарам…– Тебе все понятно? – интересовалась мама.
– Понятно, – говорил я. – Дальше рассказывай.
– Ну вот, – говорила она. – А дальше встречает он одного волшебника, и тот ему говорит: ты, князь, умрешь от коня своего.
– Как это – от коня? – не понимал я.
– Ну вот так вот – от коня! – сердилась мама. – Непонятные слова понимаешь, а простые нет! Ладно, давай я тебе спою…
И она начинала петь.
Там вдали за рекой загорались огни…В небе ясном заря догорала…Сотня юных бойцов из буденновских войскНа разведку в поля поскакала…Я слушал песню, затаив дыхание. Лучше всего у мамы получались песни. Она пела их спокойно, не то чтобы уж очень громко, но звучно. Я хорошо представлял себе сотню юных буденновцев, и вещего Олега в командирской тужурке впереди, и злого волшебника, который целился в него из винтовки с оптическим прицелом, и много разного, а потом еще вороного конька, который склонял гриву не то над Олегом, не то над самым юным, очень красивым красноармейцем…
– Господи, ночь уже, а отца все нет! – говорила мама, вставала и включала люстру.
Далекий мир исчезал. Я зажмуривал глаза от яркого света. Но и в близком мире мне жилось рядом с мамой совсем неплохо. Я бежал следом за ней на кухню. Тут было очень интересно. Текла из крана шумная вода, мама резала капусту, крошила хлеб и размачивала его в воде, делала сразу котлеты и щи, крутила мясорубку и слушала радио.
– Мам, а что вкуснее, щи или борщ? – спрашивал я.
– Отстань, – говорила она.
А я был счастлив. Я мог вечно сидеть вот здесь, слушать последние известия, смотреть в окошко и глядеть, как мама работает.
– Мама, а спой еще, – просил я.
Мне очень хотелось, чтобы далекий и близкий мир как-нибудь совместились. И мама не ругала меня, она опять начинала петь!
Дунай, Дунай, поди узнай,Где чей подарок… —красиво выводила она.
…Но больше всего я любил спрашивать маму о чем-нибудь.
Мама все объясняла подробно и толково, не то что папа. Папа на все вопросы отвечал одинаково.
Спросишь его, например: «Пап, что такое инфляция?» А он отвечает: «Так, ерунда всякая». Или – почему люди вокруг винного магазина всегда стоят? А он: «Так, ерундой занимаются».
А мама нет. Ее объяснения запоминались надолго. В общем-то, навсегда. Она объясняла, куда идет трамвай – к стадиону юных пионеров; почему магазин называется «Овощи – фрукты», а в нем ни картошки, ни лука, и фрукты одни сушеные – потому что не завезли пока, скоро будут; сколько стоит самолет – один миллион рублей; и из чего делается мороженое – из замороженного молока и сахара; и почему надо стричь ногти – некрасиво…
Близкие предметы от ее ответов как будто раздвигались вширь, помещались друг в друге и начинали жить, как добрые соседи, ничуть не противореча.
Больше всего я любил ее спрашивать, как они с папой поженились.
– Прислали нас на практику к нему в цех, – рассказывала мама, – мне одна пожилая женщина и говорит: эх, девушки, и чего вы смотрите, а мимо вас какой мужчина ходит: молодой, серьезный, красивый…
– И что? – спрашивал я, затаив дыхание.
– И все, – смеялась мама. – Познакомились. Стали встречаться.
Мама вдруг краснела и отсылала меня с кухни.
– Не мешай, – говорила мама, – скоро отец придет, а я еще ничего не приготовила.
Я послушно шел, садился на стул и начинал ждать папу.
Во время ожидания я закрывал глаза и думал: завтра вечером мы пойдем с мамой в магазин. Потом придем, она устанет и ляжет на диван. А я лягу рядом и скажу…
– Мама, – попрошу я, – расскажи что-нибудь!
– Ну что рассказать, – вздохнет она. – Жил-был зайчик. И была у этого зайчика мама…
Тут приходил папа.
Вот так мы и жили.
Политическая карта мира
Какой была эта карта?
Огромной, в полстены. Или даже во всю стену. Ведь и стена-то была небольшая. В крохотной комнатке, угловой. С единственным окошком. У всех в нашей квартире окна выходили во двор или на шумную Метростроевскую, а у старика Иосифа окно упиралось в глухую кирпичную стену.
Больше того, у этой комнаты не было даже отдельного входа. Для того чтобы в нее войти, надо было пройти сквозь другую комнату. Сначала постучаться и крикнуть:
– Можно, Давид Моисеевич?
И осторожно открыть дверь, услышав звонкое:
– Да-да!
Поглядев на папу и маму, сосед и дальний родственник старика Иосифа Давид Моисеевич говорил обычно скучным голосом:
– А… вы к нему, – и отворачивался.
Иногда мы заставали Давида Моисеевича за странным занятием: он сидел на краю большой высокой кровати в белой майке и, согнув руку в локте, слегка поигрывал бицепсом.
«Давид Моисеевич делает зарядку», – говорил потом папа, и они с мамой прямо лопались от смеха.
Впрочем, Давида Моисеевича беспокоили очень редко. К старику Иосифу никто никогда не ходил. Только мои мама и папа.
– Иосиф Израилевич… – смущенно начинала мама. – До третьего! Рубликов двадцать!..
– Одну секундочку! – весело отвечал он и отворачивался, чтобы мама не видела, сколько у него осталось.
В эти минуты, когда он, сутулясь, стоял к маме спиной в протертом сером пиджаке, медленно отсчитывая трехрублевки, она, наверное, пристально смотрела на политическую карту мира. Больше в этой комнате смотреть было не на что.
Иногда мама и папа убегали в кино, оставив меня на старика Иосифа. Поскольку он был нашим самым добрым соседом по коммунальной квартире. Я почему-то не плакал и не сопротивлялся. Наверное, мне было интересно у старика Иосифа.
Я забирался на диван, за окном становилось темно. Старик Иосиф щелкал выключателем и уходил с чайником на большую кухню. Лампочка бросала резкий ослепительный свет – абажура не было, его заменяла пожелтевшая от времени газета. В углы комнаты падали от газеты черные кромешные тени. Повсюду – по углам, на столе и на диване, – пачками лежали старые газеты.
Кирпичная стена почти целиком загораживала окно, но, если положить голову на подоконник, можно было разглядеть в самом нижнем его углу, как по освещенной улице ходят люди и иногда проезжают троллейбусы.
Потом дед Иосиф входил в комнату с раскаленным чайником, он осторожно нес его за ручку, аккуратно обмотанную тряпицей, ставил на старые газеты, наливал кипятку в большую жестяную кружку и сам размешивал ложечкой два кусочка сахара.
Все это он делал бережно и молча.
Мне надоедали эти приготовления, и я забирался с ногами на диван, поближе к карте.
Оттуда я смотрел на лицо старика Иосифа. Под вечер на нем отчетливо проступала жесткая щетина. Я знал, что она больно колется, и если старик Иосиф хотел меня поцеловать, то вырывался что есть силы.
– Иосиф! – говорил я требовательно. – Расскажи!
Он смеялся и откладывал газету. Его тень падала на Австралию, Японию и Аляску, задевая часть Индии.
– Вот это Китай, – говорил старик Иосиф. – У нас сейчас с Китаем очень напряженные отношения.
Я делал три шага по дивану, чтобы дойти до Китая и посмотреть поближе. Китай был большой и желтый. Я не спрашивал ничего. Просто следил внимательно за крючковатым пальцем, скользившим по карте – бережно и медленно.
– Вот Арабские Эмираты. Английский протекторат. О!.. Но это неинтересно для маленьких мальчиков! – говорил он и наклонялся, чтобы поцеловать меня.
Я вырывался и кричал:
– Нет! Еще!
– Нет, это неинтересно для маленьких мальчиков, – вздыхал старик Иосиф и отходил от карты, и его тень уходила вместе с ним, а карта вновь становилась под безжизненным светом лампочки немой и непонятной.
Старик Иосиф не знал сказок. Ни одной. Это его очень расстраивало. Всю жизнь он читал только газеты.
Тогда я назначал Иосифа злым волшебником и громоздил из трех диванных подушек крепость, за которой прятался и бормотал заклинания.
Он смущенно смеялся и кашлял.
– Тише, – говорил он жалобно. – Не кричи так! Давид Моисеевич уже лег, у него же режим, неужели же ты не понимаешь?
Я представлял себе, как Давид Моисеевич, в кальсонах и майке, лежит на высокой железной кровати и любовно ощупывает свой бицепс.
Мне становилось противно. И еще было обидно за старика Иосифа, что он живет, задвинутый Давидом Моисеевичем в самый дальний угол нашей громадной квартиры. Я начинал отчаянно прыгать на диване. Диван визжал, подушки сползали на пол, и Иосиф подбирал их, громко шепча:
– Ну что ты! Ну, я тебя умоляю!
…Утром он уходил покупать свежий кефир, а потом до вечера отправлялся в библиотеку читать газеты.
А мой папа с утра делал зарядку. Он раздевался до пояса, и, привязав к ремню двухпудовую черную гирю, выпрямлялся и нагибался. Шея у него становилась ужасно красная, и он шумно сопел. Я испуганно смотрел на ремень – неужели не оборвется? Но ремень не обрывался, только становился после упражнений каким-то очень мягким и дряблым.
Потом папа обливался холодной водой под умывальником. Он фыркал и снова шумно сопел, а мама подносила ему полотенце. «Папа делает настоящую зарядку, – думал я. – Не то что Давид Моисеевич».
Папа вытирался и спрашивал меня:
– Ну ты как вчера? Опять лекцию слушал?
Они с мамой начинали весело смеяться. Однажды я спросил их, почему они смеются над стариком Иосифом.
– Потому что он чудак, – просто ответила мама. – Но человек хороший.
Потом мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на Пресне. Больше папа и мама ни у кого не просили денег до получки. Да и не у кого было. Соседи в новом доме к нам заходили редко.
…А когда мне было лет десять, мы с мамой шли по Кузнецкому мосту и забежали в маленький магазинчик, где мама хотела купить географический атлас, роскошную толстую книгу. С отдельными картами всех стран и континентов. Но я настоял на политической карте мира. Она была совсем не такая, как у старика Иосифа – меньше раза в два, и, кроме того, бумага была тонкая и непрочная.
Дома я повесил ее над своей кроватью.
Вечером, когда пора было ложиться спать, я встал на кровати и осмотрел карту. Теперь я был длинный и свободно мог достать до Северного полюса. Меня поразило, что это была совсем другая карта. Страны были совсем другого цвета. Да и названия, которые я помнил очень смутно, были тоже другие.
Немного испугавшись, я позвал папу и спросил его о причине этого несовпадения. Он ответил, что карта Иосифа была очень старая, а в мире с тех пор многое изменилось. Нет больше ни эмиратов, ни протекторатов, сплошные свободные страны.
Папа долго подшучивал надо мной после этого разговора. Он говорил, что когда я вырасту, то буду таким же одиноким чудаком, как старик Иосиф.
Позже я узнал, как умер Иосиф. Дом на Метростроевской, где мы жили, стали выселять. Всем дали отдельные квартиры. Но старик Иосиф привык жить с соседями. И, не выдержав перемен, вскоре скончался.
Когда я узнал, что он умер, я ничего не сказал. Я почти забыл старика. Его щетину. Его сладкий обжигающий чай в жестяной кружке. Его голую лампочку. Запах старости и неуюта в его угловой комнатке. Его давно не стиранный костюм и желтые газеты в углах.
И даже глаза старика Иосифа я забыл тоже.
Только карту я запомнил хорошо. Не знаю, почему.
Зубная боль
Очень рано у меня начали болеть зубы. Они шатались, ныли, но не выпадали, а новые, коренные, никак не хотели вылезать, пробиваться на свет.
И тогда мама повела меня в детскую поликлинику.
Мы вошли в длинный гулкий коридор со светящимися картинками на стенах: «Чесотка – невидимый враг», «Дизентерия», «Режим для дошкольника».
Мне тут сразу очень не понравилось. Дети вокруг тихонько хныкали или сидели смирные как мыши. А из-за закрытых дверей раздавался мощный, полновесный рев. Только один карапуз в матроске, который ничего не боялся, храбро топал по коридору и сам себе командовал: «Нале-во!», «Стой, раз-два!». Но остановиться никак не мог, все маршировал взад-вперед.
Я сидел в потертом кресле у дверей зубного кабинета и просто умирал от страха. За дверью противно визжала машинка, стучало железо, и главное – кто-то глухо и равномерно мычал:
– М-м-м-м!
Потом дверь открылась, и из кабинета вышла здоровенная тетя, с очень довольным видом придерживая густо накрашенную щеку.
– Будь здорова, Клавочка! – приветливо сказала ей маленькая тщедушная врачиха в белом халате и, обернувшись ко мне, сухо добавила: – Заходи, мальчик!
Мы с мамой медленно поднялись со стульев.
– А вы, мамаша, посидите, – сказала врачиха и привычным жестом подтолкнула меня в плечо.
Я в последний раз оглянулся на маму. Она слабо улыбнулась и сказала:
– Не бойся. Видишь, какая тетя веселая вышла?
Я вошел в кабинет.
– Залезай, – сказала врачиха деловито.
Я сполз на самое дно бездонного кресла, обитого коричневой кожей.
– Ноги клади, – скомандовала врачиха и подошла совсем близко.
Я положил ноги на подставку и закрыл глаза.
– Глаза можешь не закрывать, – усмехнулась врачиха. – Рот лучше открой.
И едва я чуть-чуть приоткрыл рот, как она тут же впилась холодной острой железкой в самое больное место.
– Уй-уй-уй! – мычал я, вцепившись во врачихину руку и дергая головой.
Она вынула железку, раздраженно бросила ее в лоток и крикнула:
– Лена! Какие у нас есть игрушки?
Из другой комнаты, тяжело ступая, вышла большая пожилая женщина, неся в руках задрипанного резинового зайца. Заяц жрал морковку. Белая краска давно облупилась, и зубы у него теперь стали зеленые.
– Видишь? – фальшиво улыбнулась врачиха и показала пальчиком на зайца, спрятав в другой руке за спиной новую железку. – Сейчас потрогаем тебе зубик, и будешь ходить как зайчик, грызть морковку. Или хочешь с гнилыми зубками ходить, как старичок? А?
Пожилая Лена сунула мне зайца, погладила по голове и пошла назад, шаркая домашними тапочками.
Врачиха быстро наступила мне коленкой на лодыжки и открыла рот сухими пальцами. Я сжался от ужаса.
И вдруг скользкий заяц в моих руках жалобно пискнул.
Врачиха вынула железку от неожиданности, а я, благодарно посмотрев на зеленое чудовище, быстро буркнул:
– Не хочу зайца!
– Лена! – с отвращением крикнула врачиха, в сердцах швырнув в лоток инструмент. – Принеси этого… Буратину!
Появился Буратино, так же медленно, под шарканье домашних тапочек, но и он был ничем не лучше. Пластмассовый нос у него был целый, но опять же подвели зубы – вместо ослепительной доброй улыбки получился какой-то страшный оскал.
– Не надо! – заорал я, вцепившись в безжалостную руку.
Женщина вытерла пот со лба и попыталась успокоиться.
– Ну что мне тебя, связать, что ли? – жалобно спросила она. – Чем больше орешь, тем больше страха. Потерпел бы чуток, давно бы уж домой пошел. А то смотри – у нас есть такая распорка, мы ее вставим в рот, ты и пикнуть не сможешь. Правда, Лена? – крикнула она в другую комнату.
– Конечно, правда, – глухо пробасила оттуда Лена.
Слова были мягкие, но голос тщедушной врачихи звучал твердо. Ее маленькое скуластое лицо и продолговатые глаза с большими веками заворожили меня. Я опять закрыл глаза, а проклятая железка ковырялась там, в том глубоком неведомом месте, откуда начиналась боль.
– Ну вот видишь, – весело шептала мне врачиха, – почти не больно, почти не больно, почти не бо…
Тут снова стало больно, я опять сжал в руках резинового зайца, он опять отвратительно пискнул.
– Лена! – заорала врачиха. – Убери зайца!
Но было поздно. Я захлопнул рот и решил его больше не открывать. Мне надоело это издевательство.
– Ты что? – испуганно спросила врачиха, увидев какую-то перемену в моем лице. – Не хочешь рот открывать?
Я молча кивнул.
– Так! – разозлилась она и закричала, повернувшись к двери: – Мамаша! Войдите!
Тут же в кабинет влетела мама.
– Что случилось? – испуганно спросила она.
– Я не могу тратить столько времени на вашего мальчика! – звонко произнесла врачиха, приняв величественную позу. – Или он сейчас же отроет рот, или я отправляю вас на наркоз!
Мама подошла ко мне.
– Послушай, – тихо прошептала она, – чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сошла в могилу?
Я медленно, не открывая рта, покачал головой.
– Сгорела со стыда?
Я опять покачал головой.
– А если бы ты был партизаном? – спросила мама. – Что же, ты бы сразу во всем признался, не выдержав пыток?
Но я снова отрицательно покачал головой, начисто отвергая такие нелепые предположения.
– Хорошо, – угрожающе сказала она. – Сейчас мы уйдем отсюда. И пойдем в милицию оформлять документы. Такой сын мне не нужен.
Я заплакал. Страх перед оформлением неведомых документов оказался сильнее страха перед врачихой и бормашиной. Сложившись вместе, оба этих страха вызвали теплую волну слез, она шла из горла, с равномерными истошными всхлипами.
– Ну, вы уж совсем, мамаша, – недовольно сказала врачиха. – Так тоже нельзя. Лена! – закричала она.
И пожилая Лена снова зашаркала ко мне.
– Ты чего расхныкался? – спросила она. – Скажи, чего хочешь, мамка тебе то и купит.
…Я никогда не забуду этот момент. Голоса женщин кружились, перекликались, и я, уже ничего не понимая, не соображая, сказал навстречу мелькнувшему впереди светлому лучу:
– ХОЧУ ЗАЙЦА! ДРУГОГО ЗАЙЦА!
Ладони мои разжались, и несчастный зеленый зверь покатился на пол.
– Хорошо, – сказала мама. – Я куплю его тебе сегодня.
И незаметно вышла.
…Мне быстро вынули зуб.
На улице дул прохладный осенний ветерок, но было солнечно.
Мы зашли в большой универмаг и мама, вытряхнув из кошелька почти все деньги, купила мягкого большого зайца, с черными блестящими пуговками глаз и нежно-розовыми атласными вкладышами в серых мохнатых ушах.
Я прижал его к лицу и так шел до самого дома.
…С тех пор я много раз бывал у зубных врачей. Наверное, у них у всех есть какая-то телепатическая связь, потому что каждый врач обязательно смотрит на меня с подозрением и говорит, чтобы я вел себя нормально, не вздыхал и не вздрагивал. Теперь мне некому купить зайца.
Но странное дело, когда мне приходится терпеть боль, не зубную, а всякую, я всегда жду его. Жду, хотя и знаю, что надежда напрасна.
Ты слышишь, заяц?
Плюшевая война
Зайца назвали Степкой. Он вечно косил куда-то в сторону черным пластмассовым глазом, как будто хотел сказать: «А где морковка?»
Совсем другой характер был у трех медведей, которые появились вскоре за ним. Одного принесли гости, другого я выбрал в магазине сам, третий… уже не помню, откуда он взялся.
Медведи были совершенно разные и представляли собой настоящую семью. Суровый облезлый Миша с твердой головой, набитой опилками, был высоколоб и слегка сплюснут, зато в его глазах различалось вполне осмысленное внимательное выражение. Глаза большой черной Машки прятались в густой шерсти, к ней было приятно привалиться головой, а потом задремать, уткнувшись в теплое пыльное пузо. Маленький Мишуня выглядел немножко несчастным и испуганным, я всегда жалел его и сажал на лучшее место.
Мама была не очень довольна таким количеством мягких игрушек.
– Пылища-то какая! – сокрушалась она, вытряхивая на балконе медведей и зайца. Звери стукались друг о друга головой, а Миша издавал низкий хрипловатый звук – у-у-у – так он всегда выражался, если его переворачивали.
Потом появился слон Яша. Если смотреть на Яшу сбоку, было видно, как он улыбается счастливой глуповатой улыбкой. Мама сдалась. Она связала Яше кофту, а облезлому Мише сшила трусы. Но самое главное было еще впереди. В магазине мама присмотрела для меня двух роскошных экзотических зверей: огромную мохнатую обезьяну и высокого нежного жирафа.
Звери были дорогие, и мама предложила взять одного, на выбор.
Выбрать я не мог.
И обезьяна, и жираф просто убивали меня своим великолепием. Их яркий заграничный мех плохо представлялся мне рядом с пыльной свалявшейся шерстью моих зверюшек.