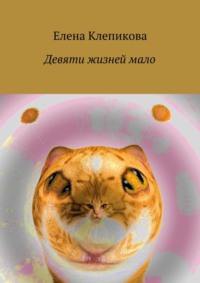Полная версия
В городе яблок. Были и небыли

В городе яблок
Были и небыли
Елена Клепикова
Urbi et orbi
© Елена Клепикова, 2016
Редактор Л. Бахнов
Редактор О. Маркова
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть 1: Голоса Города
Встреча
Чего только не случается в благословенном городе яблок.
Однажды, жарким июльским днём, на горе Кок Тюбе, в фонтане на каменном яблоке, омываемом струями воды, сидел гражданин. На гражданина никто внимания не обращал. У всех свои дела, свои заботы – дети, мороженое, поцелуи, фотосъемка.
Из густой кроны дерева прошелестел голос:
– Эй, зачем в фонтан залез?
– Жарко.
– Ты ж из наших – привидение. Нам, привидениям, жарко не бывает.
– Я антропоморф!
– Притворяешься, значит. Ну-ну…
– Робяты, а чегой-то вы тута делаете?
– Культурно отдыхаем, старче.
– А-а! А я вас раньше не встречал. Чьих будете?
– Что значит «чьих»? Своих, собственных!
– Из города мы, почтенный, центровые. Видите ли, даже нам иногда надо выбираться на природу. Оздоровиться, подпитаться, завести знакомства, так сказать. За последние годы как-то разъединились мы, кто переехал, кто в подполье ушёл, кто вообще… истаял.
– Слушайте, что если нам собраться? Познакомимся, может даже клуб по интересам организуем.
– Собраться? Втроём?
– Почему втроём, давайте, каждый ещё по трое знакомых разыщет и приведёт. Будет нас двенадцать, как знаков Зодиака.
– Знаков Зодиака тринадцать.
– Умный, да?
– Начитанный.
– Тихо, цыцте, раздухарились тута. Кадыть и кудыть надоть быть?
– Дед, кончай уже язык коверкать, можешь же нормально.
– Хе-хе, ущемление прав личности! Ладно, когда встречаемся?
– Понедельник день тяжёлый, тогда с вечера и начнём.
– Где?
– Можно у меня: местечко тихое, хоть и в центре, дом на восемь квартир, в одной давно уже не живут. Там и устроимся, никто не потревожит.
– Адресок подскажи.
Солнце спряталось за облаком, шорох листьев стих, погасла радуга в фонтане, и гражданин на яблоке растаял, растворился в брызгах воды.
– Все в сборе, собратья-привидения, двенадцать душ. Вопросы, предложения есть?
– Есть предложение: слово «привидение» не употреблять. Не актуально, попахивает этим, обску… э-э-э, мракобесием и средневековьем. Рекомендую заменить на «голос». Он же: выразитель, рупор, ум, честь и совесть…
– Эк тебя… Кто за «голос»? Против, воздержавшиеся есть? Нет. Единогласно. Будем голосами.
– С большой буквы!
– С большой, с большой! Собираемся, как стемнеет и до?
– Третьих петухов!
– Где ты в городе петухов видел?
– До первого света!
– Хорошо. Единогласно? Идём дальше – по регламенту. Предлагаю: Сначала Голос рассказывает о себе – так лучше друг друга узнаем, познакомимся. Потом рассказывает историю, которая приключилась в его доме или рядом. Одна ночь, один Голос. Все за? Отлично. На этом организационную часть позвольте считать завершённой. В каком порядке будем «голосить»?
– По старшинству.
– Спасибо, спасибо, большое спасибо! Итак, я начинаю:
Ночь первая: Голос самого старого дома
Я самый старый голос нашего города. Я тих, но слышен всем. Я пережил войны и революцию, сели и землетрясения. Я помню многое и о многом могу рассказать. Мой дом построили в шестидесятые годы девятнадцатого века, когда укрепление еще только-только получило статус города1. Построили для аксакала сартов Сеид-Ахмеда Сейдалинова, богатого купца и человека уважаемого. И дом у него, по тем временам, был лучшим во «втором разряде».
Город! Слово-то какое, его хочется смаковать, произносить по слогам, катая буквы на языке: Го-р-род – рядом горы и отсюда я родом.
Стало укрепление городом и более того центром Верненского уезда и всей Семиреченской области. Татарская слобода, Большая и Малая станицы, Дунганская слободка у Кульджинского тракта полумесяцем охватывали центр нового города с юго-запада. В центральной части разрешалось строить дома только из кирпича и камня2. Строили быстро и всего через двенадцать лет сорока трём улицам уже дали названия. Как он был красив, утопающий в зелени, резной, ажурный каменный цветок. Его так и называли Каменный цветок Семиречья – я помню.
И еще я помню, как был разрушен Каменный цветок.
«И дрогнула земля…»
28 мая 1887 годаВ тот памятный год весна в Семиречье выдалась тёплая, радостная. Только в апреле начались странности: из-под земли потекла вода, будто кто-то выдавливал её на поверхность. Вода заливала пашни, луга, подвалы домов. Застаивалась в низинах мелкими, парными озёрами. Но к маю вода ушла и благодарная земля зацвела-зазеленела – трава вымахала в рост человека, в бело-розовой кипени яблоневых садов гудели пчёлы, нежно и сладко пахли цветы степной сирени – тамариска.
Федяша смотрел на небо. По небу серыми страховитыми драконами ползли облака. Багрово-красное, цвета раскалённого железа, солнце висело над горизонтом. «Боженька гневается», – подумал парень, и тут земля закачалась под ногами. Сначала она колыхалась легко, как детская люлька, которую под напевную колыбельную покачивает мамка, потом задрожала, потом заходила ходуном, наконец, вздрогнула и затихла. Коровы замычали, кинулись в разные стороны и Федяша, щёлкая кнутом, принялся сбивать их в стадо. Две пастушьи собаки, верные помощницы, заливаясь лаем, подогнали отбившихся коров и пастух направил стадо домой, к станице.
Хозяева разобрали бурёнок, Федяша завёл свою корову во двор, подтолкнул к хлеву. Корова мотала головой, упиралась – не хотела заходить внутрь. Из окна избы выглянула мать, махнула рукой, мол, оставь ты её, пойдём ужинать. Федяша ел кашу – жёлтые пшённые крупинки плавали в молоке и походили на маленькие добрые солнышки. Совсем непохожие на сегодняшнее солнце. В открытое окно влетали ласточки, тревожно метались по горнице и с писком выпархивали обратно. С улицы доносился хриплый собачий лай, что-то напевала, укачивая ребёнка, мать. Но Федяша ничего не слышал, он был глухонемым от рождения.
Плавно сдвинулись к краю стола миски – опять закачалась земля. Федяша встал, подошёл к матери, погладил по голове уснувшую сестрёнку, показал на дверь. Мать не понимала, он ласково подтолкнул её к двери и тут изба вздрогнула. Сестрёнка проснулась, заплакала. Федяша вытолкал из дома мать с ребёнком на руках, схватил с кровати лоскутное одеяло и выскочил следом. По двору метались обезумевшие собаки. Федяша кинул одеяло у забора, потянул к нему мать. Он размахивал руками, показывал на небо, на землю, на избу, потом рухнул на колени и закричал, и столько мольбы было в этом немом крике, что мать поняла. Послушно подошла к одеялу, села, прижимая к груди девочку.
Земля качалась, как малая лодочка на волнах могучего океана, а перед рассветом раздался подземный гул, похожий на далёкие, штормовые раскаты грома и земля содрогнулась от страшного удара. Раздался грохот и треск, дикое ржание и мычание, успевших вырваться на волю животных, собачий лай. И крики людей.
С восходом солнца стало видно, что почти все добротные, рубленые из тянь-шаньской ели, избы сельчан устояли. Развалились только печи да глинобитные сарайки и летние кухни. Но над городом Верным густым облаком клубилась пыль. Казалось, города больше нет, рассыпался в прах Каменный цветок Семиречья.
Федяша стоял у изгороди, помахивал кнутом, ждал, когда можно будет гнать коров на выпас. Коров никто не приводил. На телеге подъехал сосед, дед Егор, остановился рядом. У околицы Малой Алматинской станицы собрались мужики, сложили в телегу лопаты, топоры, пеньковые верёвки, вёдра, дружно помолились и зашагали в Верный, на помощь тем, кому ещё можно было помочь. Федяша смотрел им вслед, потом решился, свернул кнут кольцом, положил у дороги, и кинулся догонять станичников.
– Да-а, вот так оно и бывает. Живёшь себе, в ус не дуешь, дела на завтра откладываешь. А «завтра» может и не быть.
– Ты как не местный, право. Привыкнуть бы пора – здесь всегда трясёт, то сильнее, то слабее. Не спорю, «Верненская катастрофа» – испытание суровое, но Кеминское землетрясение3 пострашнее было.
– Вот потому алмаатинцев безбашенными называют, совсем страха не мают.
– Это, мил друг, фатализмом называется. Бойся, не бойся, а от того, что на роду написано, не уйдёшь.
– То-то, когда в ноябре 1989 экстрасенсы напророчили землетрясение в двенадцать баллов, все фаталисты по улицам гуляли. А на Старой площади народу было! Куда там праздничным демонстрациям.
– Одно другому не мешает: на Бога надейся, но сам не плошай. Ладно, давайте я о себе, любимом, расскажу.
– Завтра! У нас «завтра» всегда будет.
– Завтра, так завтра.
Ночь вторая: Голос Старой площади
Что такое «особенный»? Особенный, значит – не такой, как все, не обыкновенный. А ещё – отдельный, независимый от других. Вот и я – не такой, как все и независимый. Всё просто, у других голосов есть дома, у кого-то один, у кого-то больше. А у меня дома, как такового, нет: мой дом – площадь. До 1980 года это была главная площадь страны. Все военные парады, демонстрации, салюты, праздники, гулянья с ликованиями, проходили на ней, площади имени В.И.Ленина.4 На самом деле моя площадь больше, чем просто открытое пространство широкой улицы – она замкнута в прямоугольник между проспектом Абылай хана и улицами Богенбай батыра, генерала Панфилова и Айтеке би: в неё входят скверы с фонтанами и памятниками, окружают красивые здания. На этой площади стоят сразу два Дома правительства – первый5, построенный в конце двадцатых годов и второй6, построенный в пятидесятые. Прямо перед ним, простирая длань в светлое будущее, возвышался огромный памятник Ленину. После перестройки памятник свезли в мемориальный парк памятников и бюстов ушедшей эпохи, а на его месте поставили памятник Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой – девушкам Героиням Советского Союза.
Моя площадь действительно старая, пожалуй, одна из самых старых в городе. Ещё в семидесятые годы девятнадцатого века здесь располагался военный городок артиллерийских и казачьих частей Верненского гарнизона с плацем и Казачьей площадью, на которой в веке двадцатом и построили первый Дом правительства, а рядом здание Главпочтамта7.
В другом конце площади, на Толе би-Панфилова чудесный сказочный дом с башенкой – здание Казпотребсоюза. А напротив каре старых жилых домов, дети из которых учились в близлежащих школах, на выпускные вечера обязательно приходили на мою площадь и с неё уходили во взрослую жизнь. Не всегда в мирную. Но те, кто оставался живым, всегда возвращались. Как в старые, добрые, безмятежные времена. Как в незаконченную юность.
В серьёзные девяностые наискосок от Казпотребсоюза стояли три коммерческих киоска, попросту – «комка». Первый очень маленький, как домик дедушки Тыквы, зато железный – в нём торговали алкогольными напитками. Во втором, нарядном, стеклянно-помпезном расположился секс-шоп. В третьем предлагали покупателям игрушки китайского производства – пистолеты, автоматы и плюшевых монстриков кислотных цветов. Покупатели затоваривались водкой, хихикали у секс-шопа и, спрашивая о цене, вытирали руки после пирожков или мороженого, об игрушки. И приключилась там такое:
Из жизни комочников
Валерка шёл на работу. Лучше бы сегодня остался дома – мозжила кость, и каждый шаг отдавался в теле звенящей, стерильно-невыносимой болью. Протез натирал культю, она кровила. Не сильно. Пока он сидел в «комке», в относительном покое, ранки затягивались тонкой корочкой. Но по дороге домой всё повторялось. Снова и снова. «Лучше бы я умер в госпитале. – Валерка вытащил ключ, вставил в амбарный замок, повернул с хрустом два раза. – Если б не сын… лежал бы сейчас в арыке бухой и счастливый. С утра выпил – весь день свободен. А так, с утра – мука, вечером – мука. И весь день – мученье. А пацана до ума довести надо».
Невесёлые мысли перебил голос тёти Куляш – её ларёк стоял слева от валеркиного:
– Салам, сосед. – Валерка кивнул, криво усмехнулся в ответ. – Нога опять болит?
– Ногой я афганскую земличку удобрил. Вот здесь болит. – Он постучал по груди. – И здесь болит. – Треснул себя кулаком по голове. – И здесь. – Швырнул на землю ключи. – Дожили. Я боевой офицер – дрянь китайскую продаю. Фатька – водку палёную. Ей учиться надо, с парнями гулять, а она! И ты, учительница – сеешь разумное, доброе, вечное – писюками резиновыми торгуешь. – Голос с крика сорвался на визг.
Тётя Куляш поджала губы:
– Всем плохо. Думаешь, от хорошей жизни этим торгую? Дочка в аварии погибла – троих внуков оставила – мне их поднимать. Родня в праздники хороша, а в горе раз помогли – потом давай, Куляш, сама. А сколько в школе платят, знаешь? Не знаешь. А ботинки детские, учебники, хлеб-сахар сколько стоят, знаешь? Знаешь. Хозяин говорит, ты – старая, приставать не будут. Торгуй, что сверху – твоё. Жалеет. И зарплату платит раз в неделю, а не в полгода. Вот и продаю… писюки. Кто знакомый мимо проходит, под прилавок прячусь. – Погладила Валерку по плечу. – Всем плохо.
Он схватил маленькую коричневую ладошку, притянул к губам:
– Прости, апашка, прости. Не со зла. – Застонал сквозь стиснутые зубы. – Н-не могу больше.
– Ладно, ладно, балам. Давай, открывайся. Время. Сейчас клиент пойдёт.
Незаметно подошла Фатима. Неделю назад её прислали на смену прежней продавщице Аське. Разбитная грудастая Аська пошла на повышение – в «точку» при хозяине, на вокзале. Когда новенькая знакомилась с соседями-«комочниками», рассказала, что ей девятнадцать, живёт с братом. Братик в шестом классе, умный, шахматы любит. Родителей нет. Ну, почти нет. «Три года назад папа зарубил маму топором, приревновал. – Фатима говорила просто, без слёз и надрыва. – Мама очень красивая была. Топор большой, блестит. Потом папа на нас кинулся. Мы с братиком убежать смогли. Папа вернётся. Он хороший, только выпивать нельзя ему. А мы к деду приехали, в Алма-Ату. Хорошо жили – дедушка добрый. Не стало его весной, Бог забрал. Надо работать. Ренат вырастет, дальше учиться пойду». Ох, злым ветром занесло эту девочку, птичку малую, в железную клетку с палёной водкой.
– Здрасьте, дядь Валер. Нога болит? – Слова можно было скорее угадать, чем услышать – так тих голос. – Давайте, я вам сладкого чаю принесу. От боли помогает.
– Принеси, если не жаль. – Валерка улыбнулся. – А что это ты всё боком. Ну-ка… на тебя полюбуюсь, и без чая полегчает.
– Не полегчает. – Фатима повернулась. Левая половина лица превратилась в сплошной багрово-фиолетовый синяк, на скуле белела полоска пластыря. Тётя Куляш прошептала:
– Опять гад приходил. – «Гад» – огромный, потный мужик повадился ходить за водкой после того, как соседи по прилавкам расходились по домам и Фатима оставалась одна. Он крыл продавщицу площадной бранью, угрожал, забирал бутылку водки. Денег не платил. Фатима вкладывала свои. – Бутылку требовал. Фатимушка не дала, так он своей поганой ручищей… И водку отнял.
– А «крыша»? – Валерку трясло от бессильной злобы.
– А что «крыша»? Сказали, пока ларёк не подломит или товар не побьёт – не ихняя проблема.
– Надо же что-то делать.
– Много мы сделаем – пенсионерка, инвалид и ребёнок.
– Сделаем! – В глазах Валерки зажёгся безумный огонёк.
И придумали они план. Детский, нелепый, ненадёжный – либо пан, либо пропал. Невозможно уже стало терпеть такую жизнь, когда любая мразь безнаказанно может раздавить тебя, словно букашку.
Наступил вечер: тётя Куляш принесла Фатиме наручники, закрепила одно кольцо на решётке и заняла пост в телефонной будке, Валерка с автоматом, стреляющим пластиковыми пульками, засел в кустах.
И Гад пришёл. И потребовал водки. И нагло просунул руку в окошечко за своей «законной добычей». Фатима успела защелкнуть второе кольцо наручников на его запястье, выскочила из киоска, захлопнула дверь. Тётя Куляш уже кричала по телефону о нападении – вызывала «крышу». Гад дёргался, ругался страшными словами, киоск трясся, и тут вступил в бой Валерка – влепил серию пулек в самые мягкие и незащищенные места. Гад взвыл, задёргался изо всех сил – под грохот и звон разбивающихся бутылок, киоск завалился в арык.
Визжа покрышками у «комков» затормозила машина – примчались братки.
Тётя Куляш в телефонной будке прижимала к себе Фатиму, а в кустах, стискивая в руках игрушечный автомат, плакал Валерка.
– Дальше-то что?
– Ничего. Как говориться, не замай. «Крыша» есть «крыша» – фирма веников не вяжет, фирма делает гробы.
– А комочники?
– Не знаю я, не зна-ю. Коммерческие киоски немного погодя из центра стали убирать. Время «комков» своё оттикало.
– Безысходно как-то.
– Жизнь. Вот так. Удачного, спокойного дня всем нам.
Ночь третья: Голос покинутого дома
У меня был чудесный дом. Построили его из тянь-шаньской ели в конце девятнадцатого века для купца первой гильдии Григория Андреевича Шахворостова. Человека почтенного и в городе весьма уважаемого. Ещё бы, он одним из первых основал коммерческое предприятие по торговле «колониальными товарами»8. За несколько лет небольшая лавка превратилась в крупную фирму «Торговый дом Г.А.Шахворостова с сыновьями и Пестов Фёдор Александрович». В первом разряде9, на углу улиц Торговой и Капальской10, выстроили основательное здание Торгового дома. Магазины и лавки фирмы работали не только в Верном, а и во всём Туркестанском крае, верненский же магазин называли «туркестанский Мюр и Мерилиз». Год от года богател купец Шахворостов, исправно платил десятину и на благотворительные пожертвования не скупился. За всё это был отправлен делегатом от Семиречья на коронацию царя Николая Второго и подносил тому серебряный поднос с хлебом-солью.
Говорят, каждый мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Григорий Андреевич деревьев посадил немало, воспитал четырёх сыновей и каждому построил дом. Уже после смерти отца, братья Сергей и Пётр построили суконную фабрику11 в окрестностях Верного на реке Узун-Каргалы, и в моём доме стал жить Сергей. А потом грянула революция, дом национализировали и кто там только не обитал: губернская чрезвычайная комиссия, губернские комитеты РКП (б) и РКСМ, позднее – областной санитарный совет, Наркомат здравохранения, первое городское медицинское училище. Из огня, да в полымя. Когда в 1978 открыли в моем доме Музей истории медицины и здравоохранения Казахстана я подумал, всё, теперь отдохну от этого мельтешения учрежденческого. Да недолго пришлось радоваться. Отобрали у музея дом и отдали под американское посольство. И тогда я не выдержал. Называйте, как хотите – струсил, сбежал. Сбежал в другой дом, небольшой, в котором всего восемь квартир – такие ещё сохранились в городе: с заплетёнными диким виноградом балконами, с тихими двориками. В дом, который не огорожен глухим железным забором. В дом с приветливо открытыми окнами. У моей временной обители тоже непростая судьба, но там живут добрые люди, и оттуда я присматриваю за старым особняком. Я жду и надеюсь на чудо. Я очень хочу вернуться. А пока живу здесь, в этом старом восьмиквартирном доме, где мы с вами собрались, и где под Новый год произошла эта история.
Новый год
Недалеко от пересечения двух очень больших проспектов стоял дом – старый и серый. Жили в нём люди, и не было у них праздника – со всех сторон на старый серый дом наступали небоскрёбы. Уныло в колодце.
Приближался Новый год. Днём подмораживало, а ночами с завидным упорством валил снег и ветер, свистящий заунывно тонко на пределе слуха, закручивал рыхлые хлопья в тугие спирали: то ли Дикая охота, то ли ведьмины зимние пляски. Жильцы всех семи (в восьмой уже давно никто не жил) квартир серого дома по привычке готовились к празднику: выбивали ковры, закупали продукты – всё, как всегда.
А тридцать первого декабря утром от Кирсанова ушла жена. Оделась, накрасила губы, буднично сказала: «Прощай» – и ушла. Насовсем. «Н-да, новогодний подарочек, – думал Кирсанов. – От такого либо в петлю, либо в запой до розовых слонов. Фиг ли. Не дождётесь». Его не прельщали ни прочувствованные речи на гражданской панихиде, ни тёплая водка с карамелькой на троих. Тем более что речей он бы не услышал, а сладкого терпеть не мог с детства.
И тогда Кирсанов потащился гулять – бродил по скверу, заглянул в кофейню, несколько раз прошёл мимо собора, но зайти не решился. К вечеру, окончательно промёрзнув, завернул в магазин – купил шампанское, пять кило апельсинов – угощать соседей, и побрёл домой.
Свет из окон освещал небольшой двор. В центре двора стоял снеговик. На снеговика смотрели дети Лялькины:
– Дядь Коль, откуда он здесь? – спросил старший.
– Не знаю.
– Мы с обеда горку строим – не было никого, а теперь – стоит, – сказал младший. Кирсанов посмотрел на снеговика. Снеговик как снеговик: три шара – один на другом, по бокам на туловке ещё два маленьких – руки и снизу впереди два – ноги. И всё. «Снеговик без лица. Стёртый, как моя жизнь, – ужаснулся Кирсанов. – Потерпи, потерпи». Трясущимися руками высыпал апельсины в снег и стал выкладывать вокруг нижнего шара. Получалось красиво – снеговик в оранжевом солнечном круге. Бутылка шампанского, воткнутая снеговику в лапку-шарик, довершала картину.
– Ну, ты, Коляныч, даёшь!
Кирсанов обернулся. Коренастый круглолицый Тынштык – сосед по этажу, – в сопровождении двух невозможно красивых высоченных девиц стоял, держа на плече ёлку, и с интересом разглядывал Николая.
– Совсем хреново?
– Прорвёмся, – пожал плечами Кирсанов.
Тынштык воткнул ёлку рядом со снеговиком:
– Ну-ка, девочки, подсуетитесь.
Красавицы покопались в сумочках и вытащили по пудренице. Глаза у снеговика получились удивительные: левый – лунно-серебряный и правый – солнечно-золотой, а ёлку украсили блестящие футлярчики теней, помады, прочие дамские мелочи.
Двери подъезда распахнулись – семейство Лялькиных в полном составе вытащило во двор дубовый обеденный стол. Мама Лялькина расстелила парадную скатерть, и дети стали споро носить и расставлять салатницы, блюда, тарелки. Папа Лялькин вместо метлы принес снеговику швабру – мокрые верёвочки, застыв на морозе, походили на колючего морского ежа.
Молодожёны из четвёртой квартиры – Надя и Лаврик Сон воткнули снеговику нос-морковку, повесили на грудь маленький плеер и попытались водить хоровод. Хоровод вдвоём не получался. К Надюхе и Лаврику подбежали Лялькины, Тынштык и инопланетные красавицы.
– Коленька, это что, решили всем домом Новый год отметить? – Поинтересовался почтенный пенсионер Ривин.
– Так вот получилось, Борис Соломонович. Присоединяйтесь. Холодно только.
– Холодно. Новый год. Дети в Хайфе, внуки в Хайфе и у них Новый год. А какой Новый год без снега?
Борис Соломонович сходил домой и вернулся укутанный в каракулевую шубу жены, поставил на стол корзинку с разнокалиберными хрустальными фужерами. Пробрался к снеговику и курагой, как мозаикой, выложил ему широкую улыбку.
– Равиль! Студент! Выходи! – Заорали дети Лялькины. – Петарды жахнем!
Окно на втором этаже распахнулось. Из окна вырвались клубы дыма, и выглянул компьютерный гений. Как и положено компьютерному гению небритый, очкастый, слегка заряженный пивом. Кивнул головой и исчез. Через минуту Равиль появился на улице: брякнул на стол связку петард, подошел к снеговику, примерившись, нахлобучил на голову яркое пластиковое ведёрко.
Петарды свистели и грохали, плюясь в небо огненными шариками. Дети и красавицы отзывались радостным визгом. Мама Лялькина обвела всех грозным взглядом:
– Весело? Да? Все здесь, а бабку забыли!?
Мужчины загалдели и наперегонки припустили в подъезд. Немного спустя, Тынштык и Лаврик с пиететом вывели, поддерживая под локотки, величавую старуху. Сколько лет Амалии Карловне не знал никто – и двадцать и тридцать лет назад она была такой же. Амалия Карловна жестом подозвала Кирсанова, сняла с головы ажурный пуховый шарф, указала на снеговика. Николай набросил шарф на шею снеговику – тот залучился радостью, стал домашним, родным.