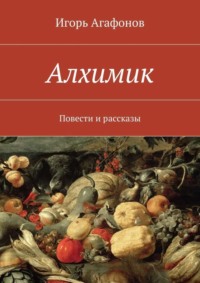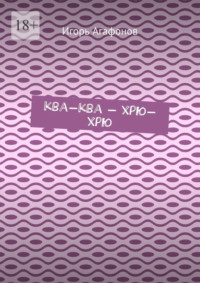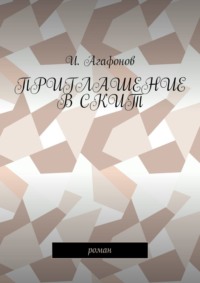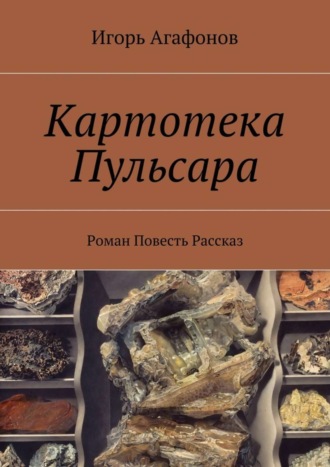
Полная версия
Картотека Пульсара. Роман. Повесть. Рассказ
Он много чего мне порассказал, Фулюган наш, поучал – не без того, ну да не обидно у него получается.
Так, кто тут ещё у нас зимой, если и не постоянно живёт, то частенько наведывается? Про некоторых я уже рассказывал вам как-то, повторяться не буду. А, Вадик Забралов, врач «Скорой помощи». Опять же врачи Платовы, муж с женой. Эти ближе к вечеру приезжают и под ручку прогуливаются по улочкам. А что, тихо тут, ходи себе отдыхай.
Франко тут у нас ещё есть (почему Франко? – до сих пор не могу выяснить). Чудноватый несколько. Построил дом – всё чин-чинарём. Потом вдруг начисто крышу разломал, хотел, возможно, что-то перекроить, но заранее не обмозговал, похоже, как да из чего, и вот теперь который год дом его без крыши простаивает. А потолок в нём сороковкой был оббит, гнить начал, трухляветь. Ну, Фулюган не лыком шит, ободрал скоренько да к себе уволок. Не задаром, конечно, по полкило, как он выражается, с чудой-юдой съели. Ох, Фулюган-Фулюган, как поддаст, так полночи песни по нашим закоулкам распевает. К слову сказать, он за многих тут дежурит. Не за просто так, за полкило-другое, естественно. Дураков нынче нема, говорит, рыночные отношения на дворе. Этот, как его, шок-террапия! А по мне, нет никакого рынка – одна спекуляция да реклама от больших мешков денежных. Сговор сильных мира сего. Что захотят нам в мозги заправить, то и будет… Да я, впрочем, не о политике с экономикой бодягу развожу, о своих, в общем, коллегах…
Называть можно ещё многих. Все чем-нибудь да знамениты. Голова вот только набухла. Если кратко обозначить разве. Вон там Окин обитает. Как ни появится, так сразу стучать начинает, железка об железку. То ли что прямит, то ли кривит. Сколько раз пытался углядеть – не вразумился. Может статься, бзик у него такой. Слышьте, мол, это я пришёл. И бемц-бемц-бемц. Я сразу форточку на его сторону закрываю и ну его, раз такая у тебя привычка. Для ориентировки прибавлю: тех, с кем я непосредственно граничу, – трое, и каждый из себя нечто особенное. Справа, если я выхожу из дома, – Трофимыч; слева – Окин-белобокин; с тылу – Яков-кряков. Так что если придётся мне бежать по какой-то причине спасаться, то – в лишь четвёртую сторону, в лесок… Кстати, сидели как-то Яков с Окиным в этом самом лесочке, выпивали. Увидал Яков Трофимыча и кричит: иди, мол, выпей маленько. Тот подходит, а Окин хвать бутылку и прямо из горла допил: «Всё, – говорит, – уже нету!» Яков даже рот открыл от изумления. С тех пор Трофимыч в обиде на Окина. Впрочем, больше о них сегодня не упоминаю, как-нибудь особый разговор заведу. А вон там ещё замысловатей… впрочем, довольно и на этом, не то ещё вообразите, что все мы тут пальцем деланные. На меня ж просто стих такой ноне критический напал – критически-саркастический. Между тем, жить здесь можно и даже полезно. В беде, по крайней мере, не оставят. Фулюгану, например, забесплатно зубы вставные смастачили. Даже испугал меня однажды неожиданной метаморфозой (я ещё про зубы тогда не знал): иду, значит, он навстречу – весёлый, зубами блестит, орёт чего-то по своему обыкновению. А вечером того же дня захожу к нему с бутылкой, добавить решил на сон грядущий, глядь – спаси и сохрани! – а на меня таращится старик с проваленным ртом. Я прям даже обомлел и оторопел… А это он вынул свои вставные и в стакан, в кипячёную водичку… Так что в старости, надо полагать, будет он дедом с шамкающим ртом и кляклым носом, этаким утячим-ширячим.
Всё! Голова утомилась окончательно. Пить анальгин или не пить? Вот в чём вопрос. Может, так засну?
А, вот ещё история. Трофимыч опять же рассказал. Есть у Фулюгана собачонка – брехливая, жуть (но не пустобрёх). Лукавая проныра и воровка. Что-то она у хозяина своего стибрила и под крыльцо схоронилась, помалкивает. Ну, Фулюган раз вышел, покликал её, другой, третий… и завёлся: «Лялька, стервоза ты этакая! Дом из-за тебя выстудил! Твою-то за ногу, куда девалась?!» Да всё это не так литературно, как я вам докладываю, а с выпуклыми картинками. «Ах ты дрянь блохастая, поди сюда немедленно! В корыте утоплю, бошку оторву! Хахаля нашла! Блудить вздумала, да! Обоим гланды выдеру!..» И так далее. А на другой день приходит к нему соседка Ляля, с нижней улицы, по прямой если – почти насупротив, медсестрой работает в поликлинике, безмужняя… и говорит обиженно: «Фулюган Митрич, зачем вы свою собачку моим именем назвали? У меня вчера гость был… так он, как услышал, так невесть что подумал… едва не помер с испугу: у вас такой голос зычный…» – «Какой я тебе Фулюган! – ответствовал Фулюган. – Сама ты плошка не чищенная. Давай на бутыль, другие метрики выправлю…» Смех, конечно, но… возможно, всё это враньё, поскольку Трофимыч мужик тоже, как уже сказано, своеобычный. На него как найдёт. То ничего-ничего, то вдруг насупится. Или на жену, или на дочь, или на собаку свою – короче, на весь белый свет. Нонче если с тобой в дружбе, то, значит, на других в обиде и все-то их прегрешения тебе обскажет. Но завтра… завтра уже им о тебе донесёт. Кстати, как-то мы с ним соседа-инвалида проведывали, это на горе который, его окна вечером на все стороны светят. И щеночка этот сосед мне сватал, пока мы сидели-выпивали. Но я крепился, отнекивался: всё ж существо живое, кормить, присматривать нужно и всё такое – ответственность, короче. А на обратном пути щенок этот увязался за мной. И давай меня Трофимыч уговаривать: возьми да возьми, вишь, какой, сам за тобой, дескать. Проко-ормишь. А где-то через месяц-полтора мой Тирля пропал (я, как шёл тогда, всё тирлялякал – тирля-ля да тирля-ля, так и нарёк Тирлей). Пошёл искать. И что? Оказывается, Трофимыч его за речку сплавил – тамошнему знакомому. Чем-то, стало быть, уж я ему не потрафил… Ну да ладно, это к слову… нет-нет, я не выражаю, так сказать, ему своё «фэ», поскольку все мы начинены разной требухой. Тем более, о Трофимыче я уже как-то вам рассказывал и ничего плохого даже не подразумевал…
Чуть свет заваливается Фулюган в драной шапке и фуфайке с ватными клочьями из прорех, и – почему-то – с топором в руке. Его пришибленно-заискивающий вид мог обозначать лишь глубочайшее похмелье. И голос хрипло-жалостливый подтверждал:
– Выручай, браток.
– А чего с топором-то, казак? Для пущей важности? – И гляжу: топор-то вроде мой. Или я подарил ему?.. С чего бы? Не помню. Надо в сарае поглядеть, а то чёрт его знает… Хотя нет: лисица у норы своей курятника не зорит.
Фулюган тоже посмотрел на топор, чуть ли не к глазам поднёс остриё, как впервые увидал, и спрятал его за спину.
– Хотел вот пол доколотить, но не могу, мочи нет. Выручай, Паш. Правда, сил никаких.
– И где ж ты так набрался? И фигли не со мной?
– Извини, брат, не свой кошт заглатывал. О-о-о! Жадность гада обуяла… – Обессилено опустившись на табурет, Фулюган приставил топор к стене ручкой, сник плечами, подбородком в грудь упёрся.
И я с трудом встаю на колени, достаю из-под дивана эн-зэ.
– А может, чайку вольёшь в себя?
Фулюган тихо застонал, но ответил всё ж опрятно:
– Нет, по чаю не скучаю.
Первая прошла в молчании, после второй Фулюган зашевелился, поморгал, отщипнул корочку хлеба. После третьей блеснул одним глазом, второй прищурил, и физия сделалась ехидной. И начинается разговор.
– Включи телевизор, что ль.
– Да ну его, – но включаю. Показывали очередную политическую тусовку. Фулюган пару минут глазеет в экран молча, потом с силой хлопает себя по колену и раздражённо:
– Вот, – говорит убеждённо, – кого в президенты надо! Молодой, рослый, курчавый… Э-эх!
– Думаешь?
– А чего? Ты против?
– Как сказать… Про него нехорошо отзываются.
Фулюган прищурил один глаз:
– Чего? Ну-к сказывай давай!
– А чего встопорщился? В лоб засветишь? Читал где-то, читал, не сам придумал: когда решали вопрос, там – наверху, чего делать с парламентом и его защитниками, он, значит, первым закричал мордатому нашему, чтоб изничтожить всех и поскорее.
– Врут всё, небось, – Фулюган опять уставился в телевизор и через некоторое время сказал, но уже без прежнего азарта. – Любят у нас навести поклёп.
– Ну это да, бывает. Ещё его чёртиком называют. Выскочил, мол, из табакерки.
– Из табакерки? – Фулюган непонимающе уставился мне в лоб.
– Ну да, нанюхался чёрти чего, – в табакерке, понимаешь? – и давай визжать: зарублю всех подряд!.. Понял, нет? Не у Табакова в театре «Табакерка», а натурально – нос в табаке. И теперь все чихают, остановиться не могут. У меня один приятель на спор так-то чихал. Хочешь, спрашивает, двадцать три раза чихну? И ждёт, когда тучка солнышко освободит. Глянет на огнь-светило, и ну чихать… при этом считает: раз, два… на двадцать третьем останавливается.
Фулюган опустил глаза, застонал, схватившись заскорузлой пятернёй за скулу, затем вынул изо рта вставную челюсть и как бы в сердцах бросил её в свой стакан, прошепелявил:
– Двадцать три, говоришь? Наливай! Пусть проденфицируется, гадина. Все дёсны истёрла. – Лицо его при этом сморщилось, сделалось потерянным-потерянным.
– Да ты не расстраивайся. Он не один такой.
– Спасибо, успокоил. – И резко сменил тон: – Как я её, а! «Зачем баню топил?!» Не-е, пусть знает: тебе есть тут с кем поякшаться.
При упоминании о жене теперь уже я скисаю.
– Не горюй. Мы тебя в обиду не дадим. Или я не знаю, что такое бабы? Э-э, брат ты мой! От собачьего хвоста. И вертятся, и вертятся… Ты, я смотрю, туповат. Я не такой. Вот ты всё бросил, в конуру законопатился. А я нет. Квартира в Москве на мне записана. Когда хочу – приезжаю. Жена в дверях – я молча мимо, в упор не вижу. Мне дочь мила, внучата – Наташка и Костька, им я рад до бесчувствия. Мелюзга, близняшки, а всё разные. Костька хапнет апельсин и в комнату ползёт, там только есть-чмокать начинает – спрятамшись. А Натка тут же в кухне приземлит свой задок и зубёнками в кожуру – грызь-грызь. В меня – оба! А ты говори-ишь!
– Молчу, Виталь, молчу. Всё понимаю и всех понимаю. Одного себя не понимаю.
– Ну, сыну ещё для разрядки мозги вправлю, чтоб ягнёнком не блеял. А ей – фу-у! – кило презрения. – Фулюган помахал у носа перстом. – Ни-ког-да! Никогда не сворачивал, если решил. Ты чего думаешь, я мотаюсь туда с рюкзаком? Яиц, маслица, кролика привезу. Деньжат подкину. Дочь у меня – во, казачка! Сейчас с детями сидит. Зять ногу сломал. Без денег. Кто поможет? Тёща давеча приехала, в ноги хотела кинуться – помиритеся, мол. Не-е на-адо! Когда сам хотел – нос воротили, слабак-де, да запах от меня не тот, вишь ли! Образование высокое имеешь? А теперь на-кося. И ты сопли не распускай.
– Да я и не распускаю.
– А то я не вижу. Ты мне сказок не сказывай. Я всё это пережил, перетерпел. Теперь я вольная птица. А то ишь… Я ж вижу, как она тебя вчерась поддела за живое. Лица на тебе не было.
– Температурил я.
– Э, фигня всё это – температура твоя. Сидишь тут скрючимшись, тоску зелёную разводишь в лоханке. А чего её разводить? Ты ко мне приходи, когда тяжело. Мы с тобой и по бабам сбегать могём, а летом – на шабашку. Что нам их кризисы и круизы. Хоть мировые, хоть какие исчо! Скачут там наверху с места на место, как блохи. Кто-то мрёт, а кто жиреет. Вот с жирненьких и будем стричь.
Тут мне ни к селу – ни к городу вспомнилось – Тимофеич давеча доложил. Они с Фулюганом соперничают из-за дополнительных дежурств – естественно, за плату которые. Поэтому каждый старается представить себя перед руководством нашего товарищества (да и вообще создать общественное мнение, так сказать) в лучшем виде, а другого – по крайней мере, смешным, если уж не разоблачить вовсе в какой-либо неприглядности. Так вот Фулюган неделю назад поймал воришек – собирателей цветного метала. Разумеется, рейтинг его подскочил выше некуда. Ещё бы, в газете местной пропечатали. Тимофеич на это лишь заметил: ну-ну. И был прав, потому что на другой или на третий день Фулюган, получив очередную плату за дежурство, напился с приятелем и едва не утоп буквально в луже по колено. Как Тимофеич рассказывал: «Выпили они – мало показалось. Дал Фулюган приятелю денег на бутылку и отправил в город, а сам, чтобы зря время не терять – на ту сторону речки к бабе этого приятеля… дескать, пока мужик ходит, я её проведаю… А чтоб не скучала. Да. Шёл-шёл и заблукал. Упал и орёт благим матом. Вовка, механик, ты знаешь его, выскакивает с вилами, не поймёт, что к чему, в темноте ж не видно, кто… Ну! Чуть, говорит, не заколол, как вора. Потом посветил спичками, узнал-таки, поднял, отправил с грехом пополам в гору. Ладно, пошёл наш Фулюган, да опять не туда, забрёл в речку, а оттепель тогда была, стоит по пояс в воде и кричит: тону, спасите! Где берег, покажите! Другой уже сосед выскакивает, Витька, на углу живёт, под прожектором, который никогда не светит, ты его тоже знаешь. Тоже чуть не накостылял Фулюгану, за бомжа принял. Короче, когда он домой добрался, то ни приятеля с бутылкой, ни новой – нулёвка, говорит – куртки, и ещё какие-то вещи пропали. Сидит и чешет затылок: с кем я пил вчерась, не пойму. Не помню! Вот такой наш газетный герой. А ты говоришь…» А я опять, между прочим, ничего и не говорил.
И ещё ни к селу – ни к городу… Как-то прошлой зимой я застал у него девицу, девица как девица, молоденькая, на его постели возлежит. Не вовремя, думаю, я пожаловал. Но всё ж вызвал его из хибары на двор. Пошли мы с ним ко мне, допили бутылёчик, что я один начал, поговорили. Спросил я, между прочим, что за примадонна у него гостит. Поморщился, махнул рукой. Ладно, думаю, после расскажешь. Достал две бутылки пива и отдал ему.
– Это вам на двоих.
Фулюган тут же пиво в карманы рассувал:
– Спасибо, – говорит. – Удружил.
А спустя достаточный, пожалуй, срок я всё ж таки подробности имел удовольствие узнать – всё тайное, как говорится, рано или поздно становится явным. Уж простите за банальщину.
– Слышь, а та деваха, – спрашиваю без особого, впрочем, любопытства – так, для развития хиреющей беседы, – ну, что я у тебя прошлой зимой видал… помнишь?
– Ну.
– Она к тебе наведывается по-прежнему?
Фулюган молчит, покусывает верхнюю губу – признак обдумывания: как «подороже» продать или, точнее, как лучше подать. Затем:
– А ты не слыхал?
– Нет.
– Ничего?
– Да нет же. Зачем бы и спрашивал.
– Так-так, холера-то ещё! Ну, слушай! По-ользуйся чужим опытом. Я тебе как в театре обскажу, с карикатурками. – И неожиданно Фулюган преобразился, будто действительно вышел на сцену к зрителю, так что меня даже смех пробрал, едва я сдержался.
– Еду как-то из Мо-оскау – внуков навещал – и завернул на Лианозовский рынок, так просто, без определённой цели, окно в расписании электричек заполнить, как Окин твой выражается, – не подгадал, называется. Ну ладно, кто-то, может, и не переносит людской толчеи, а мне эта самая гуща пахучая вполне по вкусу: где прицениться-поторговаться, где анекдотец загнуть, а где и «прицелиться» – нет ли возможности чего слямзить, ну ты ж меня знаешь.
И вижу тут я родственницу свою – дальняя совсем, десятая вода на киселе, можно даже сказать – просто знакомая, поскоку ни на каких посиделках мы с ней не сталкивались. Но та ещё тётка – не то что палец в рот не клади, а и словцо лишнее притормози – отчихвостит за милую душу, такой базар устроит, что и… Но мы-то с ней – одного поля ягода. Понял? Подхожу незаметно и на ухо ей: «Ну что, товарка, чем порадуешь?» Как заорёт с испугу: «Отчепись, мародер!.. – Тут же, правда, узнаёт и ну плеваться: – Фулюган проклятущий! Чтоб тебе ни дна не покрышки!..» – Впрочем, баба тёртая, может только так, для виду испугалась. Тут же ласково мне и говорит: – Давненько – давне-енько не появлялси. А порадую – всё у меня для счастья и удовольствий. И сама-т хороша – расхорошенька.
Вот какую бабу мне иметь бы, но помоложе, конечно, но вот именно такого характера – разбитного-прибауточного.
«Эх, Маняшка ты моя! – говорю. – Красноморденькая!» – «Не твоя-т я, не твоя, не твоёшенька! – и хлопает меня по плечу своей ладошищей: – А сурьёзно ежлив, то возьми вон племянницу мою. К себе. Чего ей у моего подола ошиваться».
Глянул я на молодку годков тридцати в глуби торгового шатёрчика и сразу оценил – подходяща, этакую и в самом деле взял бы.
«Да куды ж я её возьму-та? Сам пятый годок в берлоге зимую. – Но тут же и смекаю, что родня на то и родня, чтобы всё обо всех знать. Прищурил я один глаз на тётку, другим нацелился на „товар“. – Да и может ли быть такая краля ничья? – говорю. – Сумневаюсь чтой-то.» – «Вот возьмёшь и будет твоя.» – «Серьёзно?» – «А ты испугался? Мы что ж, не на базаре? Я продаю, ты покупаешь. Ты продаёшь, я покупаю. Инда, голубь, готов если взять, так всерьёз бери, а нет – проваливай, других молодцов, посмелее, найдём». – «Ух ты, кух ты! – говорю, но, признаюсь, опешил слегка, но лишь именно слегка, поскоку смекалки не занимать, ты ж меня знаешь, и смекалка эта соображает мгновенно. – Ладно, рассказывай». – «А чё рассказывать, – говорит тётка, но голос понижает. – Племянница она и есть племянница. Мужа нет, живёт у меня. Скучает. Да и что мне с неё, я ж не эта… как их там кличут по-нонешнему?.. не лесбийка и не… как их там кличут, которые продают и деньги на том зарабатывают?.. Так вот, мне она ни к чему – ни с заду, ни спереду. И-и бери, не чухайся, тока живо!»
А я, знаешь, всё ещё сумневаюсь, вдруг шуткует.
«Дык, – говорю: – … ты ж знаешь, где я… У меня ни театров, ни филармоний». – «О, милай, какие ей филармонии, ой! Ей бы мужик под боком». – «А пойдёт?» – «А куды ж денется! Скажу: надоела, уматывай! Не пойдёт – побежит. Не избалована. Да и приглянулся ты ей. Ишь, как глазками стрёкает».
Вот таким немудрящим манером и «прикупил» я себе товару. Приобрёл, так сказать, ни за понюх табаку.
Ну ехали потом, о чём-то говорили. Нинуля рассказала мне о себе – ну, что сочла нужным, то и вывернула наружу. Не утаила, кстати, об отсидке в два года. Я хороше-енько её разглядел и не разочаровался – именно такой фасон бабенции мне и по ндраву больше всего: и глаза-то зелёные, и ушки пельмешками аккуратненькими, и губёшки с носиком, и овал личика приятный, да ещё чёлочка – ах! – ну по заказу прям. Ну тётка, наскрозь мужика видит! Да, миловидна, но слегка припухла – знать, с похмелья. Ну да это не беда. Сам такой. Дело поправимое. И я взял на вокзале водчонки. полтора кило
Со станции до моей «резиденции» шагали мы бодренько и почти молчком, так как прижимал морозец да ветерок в морду – рот просто так не откроешь. На повороте встретили нас мои собаки, завертелись под ногами. «Это, – говорю, – мои шельмецы. Ты их не бойся. Лялька! Милка! Цыган!.. Чего у него с боком? Кабан зацепил. Пару дней как очухался. Сам облизать не дотягивался, так сучки ему вылизывали».
А дома сразу затопил свою «Маняшу» и, пока жильё наполнялось теплом и уютом, повёл своё «приобретение» на экскурсию: дом кирпичный свой показал («Как печку сварганю, буду жить – не тужить. Хотя зимой лучше моей хибарки-вагончика не придумаешь – всё под боком, всё под рукой. И „Маняша“ греет не хуже мартена. Сосед мне давеча кровать вторую кинул с барского плеча, так что жить будем не плоше королей с королевнами»), огород, курятник, баньку («А, затопим?! – А как же!»), окрестности обвёл рукой: гляди – красота! – не налюбуешься, порассказал о соседях-дружках, которы последнее отдадут для меня, не пожалеют, такие вот они у меня настоящие. Короче, то да сё, и в тепло, на сковородочку мясца с салом – блямц, стакашки о столик – бемц, и – хо-ро-шо-о-с!
И стали мы жить-поживать, в самом деле, неплохо. Хоть я и бросил свою прежнюю работёнку в кочегарке, зато теперь не надо каждый день вышагивать эти километры туда-обратно, да и за охрану («сторожбу») садовых участков теперь платили боле-менее. А, кроме того, всё у меня есть в хозяйстве – и куры (а, стало быть, и свежие яйки), и кролики (мясо съел – шкурки продал), и кабанчик был – теперь сало-мясо в подполе имеется. Не говоря уже про огородные запасы: лук-чеснок, картофель, огурцы-помидоры в засоле, варенье всякое…
Только стал я замечать через какое-то время: грустной делается моя Нинуля в иные-то часики. И вроде ни в чём я ей не отказываю. Если в гости к кому иду, с собой беру (может, конечно, не тот народец ей надобен – по магазинам бы ей прошвырнуться милей, но всё ж потрепаться, выпить есть с кем). Привык я к ней, даже мысленно стал примерять себя в законные мужья, да вот только, действительно, незадача – эта затуманенность Нины, тоска, понимаешь, какая-то нездоровая. А потом она как-то и скажи: «Степлится – уеду я, слышь. Надо мне кое-где понаведаться. Денег дашь?» – «И куда же? – интересуюсь. – Уж не по корешам ли своим стосковалась?» – «Да нет». – «Врешь, небось, девка. Не по наркоте ли соскучилась, обмираешь? Косячок забить захотелось?» Вспылила тут моя Нинуля, да уж больно резко, чтобы не вызвать у меня подозрение, что в точку я попал. Я сразу обратил внимание, что если она выпивает, так сразу по стакану, не так как мы с тобой – по малу – по малу, для разговора. «Что, – говорю, – надоел я тебе?» – «Я вернусь… – отвечает, уже успокоилась, – если ты не против».
«Вернётся, как же, – думаю. – Не отпускать?..» Ну что там у неё на уме? Поди, узнай.
«Скажи-ка, – пытливость проявляю уже позже, между прочим как бы, – может, у тебя где ребёнок остался? Я б не возражал, давай заберём». – И мысленно прокручиваю: дочь с внуками приедет летом, сын… (Бывшей жене дорога заказана.) «Ну да что ж, они взрослые, поймут…» – Хотя, конечно, уверенности не было в этом. Ну да почему я должен ущемлять свою собственную и родную жизнь?.. И тут, представь себе, как захохочет она, да дико так: «Ребёнок? Ха-ха! И был бы если, то куда – забирать? Сюда? В энти хоромы?! Кирпичный ты ж для дочки!..» – «Ладно, – говорю, – не гогочи, не дёргайся. Вольному воля… Будут деньжата, отстегну».
Про себя-то я решил – не решил, но как бы заартачился: шишь тебе с маслом! А без денег куда ты пойдёшь! Зима. А весной дела огородные начнутся, глядишь, и втянется. И опять про дочь и сына своих вспомнил… но отмахнулся: будет день, будет и пища.
А на Новый год нарядили мы с ней маленькую ёлочку, приготовили фаршированного гречкой и мочёными яблоками гуся (которого мне дали за рытьё колодца) и нормально, в общем, встретили, хоть и без шампанского. Да кому оно нужно, поддельное? А гусь да с яблоками – плоха ль закуска под водочку?
А вот и рождество. Я думал-гадал, что подарить ей, так и не придумал, да, собственно, и денег не было. За колодец, помимо гуся, заплатить обещали позже. А деньги за дежурство уже проели-пропили.
Ну а после того неприятного разговора она вроде повеселела… Но всё же было заметно: варится в её головке думка, ну да в чьей голове нет мыслишек? Черпаки да ложки перестала ронять и то ладно. И всё же чутьё… чутьё мне подсказывало: ненадолго эта её смиренность. И держал ухо востро, и спал теперь, как говорят, вполглаза.
Фулюган поёрзал на табурете, потрогал пустую стопку, закурил. Я наполнил стопки…
– Не доглядел. На рождество, как сказано уже (на дворе минус тридцать три, печь натопили до красна, выпили, закусили, в кровати потешились, и заснул я в оба глаза. И снится мне: улыбается Нинуля, вот-вот расхохотаться готова, хохотушка. И – боль пронзает! Вскочил я – передо мной она, в руке нож, и лезвие в крови (а я голым спал – в такой-то жаре), – опустил глаза – брызжет, булькает что-то красное из правого соска, и пузырится. Кхекнул, харкнул – кровь изо рта.
«Ты что, Нин, сделала? Ненормальная?!» – «А ты… ты… – говорит и задыхается как бы, и глаз не спускает с моей кровищи. – Ты что же это, и вправду решил, что купил меня с потрохами?! Как вещь, да?! – отшвыривает нож и – в дверь, уже одетая и с собранной сумкой.
«Так! – говорю я себе. – Тихо. Дёргаться не надо. Не надо…» – натянул кое-как ватные штаны, ноги в валенки сунул. Тельник через голову – раз, и рану зажал пятернёй. С трудом натянул телогрейку, шапку нахлобучил. Топор у косяка. Взял. Зачем? Бросил. В дверь. Собаки где? – Это всё мысли у меня скачут судорожные. – Лялька! – зову хриплым голосом, – Милка! Цыган! Где ж вы? Неужто уманула?.. – И маленькими шажочками с горы – к светящимся окнам соседушек. «Только бы с машиной кто…» Пока спускался с горы, пустил в штаны. «Ничё-ничё, это со страху меня пробрало… не нужно бояться. Если б она в левый бок засадила, то да, а правый ничё-о… Доберёмся…» Доплюхал-таки до Антошкина, а он, стервец, и открывать не хочет: «Кто?! – орёт. – Какого хрена!» Представляешь? «Открой! Это я. Помираю. Зарезали меня!» – «Катись ты к!.. Фулюган полуношный! Проваливай! Я не один». Я ему: «Да не шучу я. Открой!» Впустил-таки. Ввалился я, бухнулся на табурет, стянул с правого плеча телегрейку: «Перевяжи.» Он давай ещё пуще материться, но бинты искать стал, затем перевязывать. Но при этом всё бубнит: «Ты чего думаешь, я сейчас тебя повезу?! На кой ты мне сдался, всю машину устряпаешь. Да и не заводится она в мороз». Я его тогда прошу: «Ты к Гуливеру сходи, у него телефон, пусть Платову звонит – он ноне дежурит, скорую пришлёт». Тут ещё жена Антошкина выходит из комнаты, заспанная, растрёпанная, сволочь: «Ну и дружки у тебя! – шипит по-змеиному. – В ночь-за полночь не спросясь. Теперь я знаю, как ты тут без меня живёшь!» Антошкин ей: «Да что ты, не видишь – ранен человек!» – «А мне плевать! Кого другого, а этого давно пора убить. Кобелины паскудные. Убирайтесь оба!» Тогда Антошкин чуть ли не за шиворот меня к порогу: «Ну всё, завязал я тебя, айда теперь!» Я, было, упереться хотел, да сил никаких: «Куда я…» – «Да хоть на горы кудыкины! Пошли-и! – и всё тут. – К Гуливеру! – Вышли мы на крыльцо, стал Антошкин кричать: – Гуливер! Гуливер!» Я ему: «Да разве он отсюда услышит!» Он хвать меня за руку: «Идём!» А у меня, как нарочно, живот ещё прихватило, но куда деваться – поплёлся по снегу за Антошкиным. Тот постучал в дверь, а в ответ: «Да кому там делать нечего?!» И собаки, блин, с цепи чуть не срываются, захлёбываются лаем. «Слышь, Гуливер, открой! Надо позвонить, чтоб Платов „скорую“ выслал. Фулюгана зарезали». – «Да и хрен с ним! Надоел уже всем!» Представляешь? «Гуливер! – кричу уже я сам. – Запусти в дом, замерзаю. Погреться». – «Да пошёл ты ещё! – орёт Гуливер в ответ. – В дом его пусти! Лазарет отыскал! – Затем слышно, как он говорит по телефону, потом кричит нам: – Шуруйте на гору, сюда не смогут подъехать – замело. Проваливайте!» Вот так.