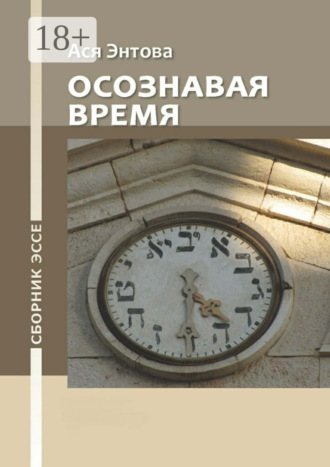
Полная версия
Осознавая время. Сборник эссе
Какие-то из общих проблем глобализации в Израиле наблюдались всегда (разделение на этническо-религиозные общины, диаспора), какие-то только появляются (проблема иностранных рабочих и африканских нелегалов). В отношении же «столкновения цивилизаций»31 и подъема современного мусульманского террора мы находимся на передовой. Повышенное пристрастие евреев нового времени к социальному реформаторству в стиле новомодных идей дает себя знать и в современном Израиле. Представители «светского» еврейства опять первыми погнались за «глобализационной» модой и поспешно свернули национальную идею в пользу открытости и универсализма. Идея национального государства выходит из моды и принципы национального строительства пытаются грубо разрушить, чтобы привести практику в соответствие с новейшими теориями мультикультурализма и релятивизма. Теоретики Нового Ближнего Востока считают, что евреям больше не требуется свое национальное убежище, к которому так стремился сионизм, и идеал еврейского национального очага сдается потомками светско-сионистского истеблишмента на хранение национально-религиозному лагерю. В то время как ультраортодоксальные израильские евреи все более склоняются к признанию сионистских принципов, официальные государственные структуры все менее склонны акцентировать национальную идеологию и все более обращаются к универсальным лозунгам «мира», «безопасности», «экономического процветания» и др.
Блестящие военные победы Израиля остались в прошлом. Теперь на нашем знамени написано: «отступление», «сдержанность», «уступки», а это если и может вдохновить кого-либо в диаспоре, то только антисемитов. Акцентирование абстрактно-либеральных ценностей в ущерб национальному характеру государства плохо сказывается и на внутренней политике Израиля и на его отношениях с диаспорой. Если Сохнут везет в Израиль неевреев, если «Керен Каемет» оплачивает поселение на Земле Израиля не евреев, а арабов, если государство не строит, а разрушает еврейские поселки, то роль Израиля в качестве объединяющего нацию духовного центра сильно уменьшается. Евреи диаспоры обескуражено наблюдают самые противоречивые тенденции внутри израильского общества и предпочитают все свое внимание и средства обратить на дела местной общины.
«Израиль перестает быть центром евреев, – писал американский профессор Г. Галкин еще в конце 20 в. – Выдать каждому еврейскому тинэйджеру путевку на посещение Израиля, предлагает лейбористский политик Йоси Бейлин! Но когда юный Брюс или Дженифер с путевкой в руках высаживается из самолета и обнаруживает нацию таких же Йоси Бейлинов, то, спрашивается, чего ради ему (или ей) было покидать Филадельфию?»
Назад в будущее
В прошлом веке казалось, что еще немного и история рассудит, оставив только «правильный» из всего многообразия путей, которыми пошел еврейский народ. Одни считали, что религиозные «просветятся», другие, что светские ассимилируются и пропадут, третьи, что исчезнет диаспора, четвертые – что проект Еврейского государства не увенчается успехом. Сегодня становится понятно, что так же, как и раньше, когда все новые ортодоксальные течения включались в общину и продолжали в ней существовать, влияя друг на друга, так и теперь волны идеологий реформистской, марксистской, исраэлитской и других проносятся по поверхности и в лучшем случае оседают где-то на периферии. Меняется мода, и место придворных врачей занимают нобелевские лауреаты, а место барона-филантропа – еврейский бизнесмен. В России вместо антисионистского комитета появляется сотня конкурирующих между собой организаций «профессиональных евреев». В Израиле в авангарде место киббуцника в сандалиях и шортах занимает поселенец в джинсах и вязаной кипе. Кто-то отходит в сторону и безвозвратно теряется для своего народа, кто-то заболевает самоненавистью и «стучит» в ООН на своих, кто-то возвращается к традиции и религии. Сегодня различные символы национальной общности, вроде этничности, гражданства и религиозной принадлежности, уже не так жестки и, к счастью, не так сильно конкурируют между собой, как во времена модерна. Однако современная излишняя гибкость и изменчивость социальных признаков и связей оборачивается как дополнительными проблемами самоопределения, так и опасной разобщенностью израильского общества. Антисемитизм тоже подвержен моде, и сегодня он предпочитает рядиться в маску критики «агрессивного Израиля».
Место главенствующей национальной идеологии на сегодня свободно: многочисленные «измы» схлынули вместе с модой на рационализм, а религиозные люди не утруждают себя выработкой идеологии – этой подпорки рационалистического мировоззрения.
Какие пути выберет для себя ощущение национального единства, какие цели и задачи смогут нас объединить, какие новые формы примет наша старая традиция – все это не предсказуемо. Но можно надеяться, что и те, кто верят в Того, Кто нас избрал и заключил с нами завет, и те, кто вместе с Ренаном считают, что единственная основа нации – это рациональный «ежедневный плебисцит», найдут свою нишу в русле древней традиции «Ахават Исраэль» – любви к своему народу.
2005 г.Вечность и бессмертие
О восприятии времени у античных греков и древних евреев
«Вечность Израиля не обманет»
Книга пророка Самуила (Шмуэль) I, 15:29«Когда бы грек увидел наши игры…»
О. МандельштамАнтичные греки и древние евреи – эти два народа оказали решающее влияние на формирование современной западной цивилизации. Поэтому в процессе самоанализа мы вновь и вновь возвращаемся к этим двум древним культурам – одной ископаемой, другой существующей и поныне.
Давно стало трюизмом сравнение греков как народа эстетики с евреями как народом этики. Провозглашая, что «красота спасет мир», герой Достоевского только повторил этот тезис вслед за Платоном, утверждавшим, что следует обустроить наш мир в соответствии с красотой абсолютных образов мира идей, в том числе идей моральных (в другом случае этот герой соединял «красоту и молитву»). Известно и сравнение кругового, циклически повторяющегося античного времени с его ожиданием возврата в изначально наилучший «золотой век» с вектором времени библейского, направленным от момента сотворения мира к моменту прихода Мессии32. Нетривиальная связь этих основных отличий восприятия мира двумя древними культурами является одной из тем, рассматриваемых в исследовании Ханны Арендт «Vita activa, или О деятельной жизни»33.
Арендт определяет отношение ко времени у греков как стремление к бессмертию, у евреев – к вечности. Бессмертие античности принципиально отличалось от вечности современных им восточных богов. Классические античные боги, строго говоря, не являлись вечными. Вечность предполагает существование другой, неизменной реальности, а греческие боги жили здесь, в этом мире и вновь и вновь ссорились и мирились или даже уничтожали друг друга.
Этот мир был не вечным, но бессмертным. Природа каждый год умирала и оживала, звери и птицы умирали как особи, но продолжали свой род. Так же и человек как биологический вид был бессмертен. Но к этому времени уже родилось представление об уникальности человеческой личности – провозвестник современного западного индивидуализма. И античные философы, и потомки бунтаря Авраама уже осознали неповторимость каждой рожденной на свет человеческой души. Конечно, это был еще не современный индивидуализм, а скорее ощущение выделенности человека из безличных и внеморальных природных законов и связи с трансцендентными ценностями34. Античный человек, обретший такое понимание, но не обретший личного бессмертия35, мучительно переживал разлад двух своих ипостасей – природно-родовой и личностно-индивидуальной. Природную родовую сущность человека поддерживал каждодневный труд занятых в домашнем хозяйстве рабов и женщин, осуществляющих продолжение рода. Работа по обеспечению физического, животного существования считалась необходимой, но не достаточной для свободного человека, она не давала ему возможности проявить то, что отличает человека от животного. «Человек – животное политическое», – писал Аристотель, понимая под этим, что истинно человеческое проявляет себя только в специально организованном сообществе – в полисе, который, переживая отдельных людей, сохраняет традиции и память и в некотором смысле так же бессмертен, как боги. Для свободного человека, ведущего достойную деятельность на агоре греческого полиса, зависть к бессмертным богам и героям не была поэтической метафорой – это было повседневное чувство.
Проф. Лосев36 описывает этот феномен как переход от мифологической и эпосо-героической эпохи, когда человек был неразрывно связан со своим родом и, через него, со всем мирозданием к эпохе классического греческого полиса, когда свободные индивиды осознанно объединялись в полисе для «лучшей жизни», то есть жизни общественно-политической.
Если в мифологическую эпоху время воспринималось как нечто естественно-природное и неотделимое от мироздания богов и людей и их поступков, то уже в эпоху героического эпоса время стало восприниматься как препятствие для героя, которое иногда требуется преодолеть. А в эпоху полиса оформилось отношение ко времени как к всесметающему потоку, приносящему иногда случайное несчастье, иногда заслуженную кару, но всегда разрушение людских дел и забвение. Победить это время и заслужить бессмертие, как у богов, герой мог только своими выдающимися деяниями, выделяющими его из безличного людского рода и навечно запечатлевающимися в памяти потомков, еще более продолжительной, чем тот или иной полис. Память запечатлевала все выдающиеся деяния: добрые или злые, полезные обществу или нет37. Именно такое отношение породило феномен Герострата.
В эпоху классического греческого полиса человеческое бессмертие воспринималось только как существование в памяти, как бессмертие великих деяний, передаваемых риторами из поколения в поколение38. Возможны споры о том, способствовало ли такое понимание бессмертия возникновению агонального, то есть соревновательного духа, которым отличались древние греки39 или, наоборот, само является его порождением. «Всегда быть первым и преобладать над остальными», – утверждается в «Илиаде». Выделиться на поле брани, хотя бы и ценой смерти – вот что отличало свободного человека от раба, предпочитающего смерти плен и рабское существование. Общественная жизнь античного полиса – знаменитая античная демократия в теории имела своей целью не привычные сегодня взаимовыгодную свободу общества предпринимателей или всеобщее согласие общества потребителей. Полис собирал на агоре свободных людей, отвлекшихся от домашней заботы только о своих природных нуждах.
В идеале доплатоновская демократия ориентировалась не только на сегодняшний день, а на память поколений40. Она давала возможность каждому через общественную жизнь соприкоснуться с вечностью. Выдающиеся могли проявить свои качества и стать героями, то есть заслужить бессмертие людской памяти и сравняться с бессмертными богами. Наравне с военной или спортивной победой таким деянием могли послужить уникальные речь, жест или поступок. Ценилось именно действие, выделяющее того, кто его выполнял, а не один только результат или достижение. Поэтому уважения заслуживал не удачливый купец и не искусный ремесленник – торговля и ремесло, возможно, приносили избыток, но они отнимали необходимое – время, которое можно было потратить на единственно достойную человека деятельность. Конечно, созданное произведение (например, скульптура) могли прославить своего автора, но все рукотворные вещи, как и люди, были преходящи. Только идеальный бессмертный полис, как сообщество людей, обладающих знанием и памятью, мог устоять перед напором времени.
Физическая красота свободного тренированного тела (скорее мужского, а не женского, предназначенного к размножению) так же, как и деяние, могла прославить владельца и выделить его из многих. Красота воспринималась не как уникальное сочетание личных черт41, а как отблеск гармонии, присущей бессмертным вещам. Это была эстетика, которая еще не отделилась от этики. Все бессмертное по мысли греков было совершенным, а некрасивость (неправильность, отклонение от совершенства) была следствием всего временного и случайного (ошибки природы или слабости или неразумия человека).
Пример таких идеальных умозрительных объектов давала математика и ее идеальные объекты, например, натуральные числа. Забавно, что греческие геометры не захотели принять идею иррациональных чисел, которыми измеряется, например, диагональ квадрата с длиной стороны, выражаемой обычным (рациональным) числом. По-видимому их оттолкнула кажущаяся неправильность, «некрасивость» или незаконченность иррационального числа, выражаемого бесконечной дробью, и они посчитали, что такое «уродство» не может описывать бессмертный космос и принадлежать бессмертному миру идей. Чтобы обойти эту проблему геометрические задачи решались при помощи построений и без участия арифметики42.
Цикличное существование бессмертного мира во многом объясняют игровую легкость греческой культуры, ее науки и философии43. Выигрышем в этой игре служила возможность проявить себя, прославиться и этим уподобиться на время или навсегда бессмертным богам. Жизнь, как игру, можно было вести только на условиях, что это либо приятно и интересно, либо предполагает возможность выигрыша. Больных или уродливых детей не оставляли жить не только от суровости условий, но по той же причине, что и врача, не могущего принести полное излечение, считали обязанным не лечить вовсе44. Существование больного или раба было чисто физическим или животным и не стоило того, чтобы его вел человек, обладающий свободой с ним покончить. Также и платоновский мир вечных идей мог включать человека, как болельщика, наблюдающего за игрой мирового духа, но не давал ему живого ощущения причастности и смысла его собственного существования45.
Позднее, когда полис разросся и перестал обладать притягательностью закрытого клуба46, когда искусство красиво говорить оторвалось от искусства красиво поступать, словом, когда обнаружились многие из симптомов тех проблем, от которых страдает современное демократическое общество, бессмертье однозначно стало связываться с миром идей. Переживший казнь учителя Платон еще пытается создать теорию (или, по выражению Лосева, отрефлектированную мифологию) правильного, вечного полиса в книге «Государство», но следующие за ним философы уже однозначно отвергают любую политическую деятельность, как недостойную, и полностью сосредотачиваются на размышлениях о вечных идеях. Во многом их рассуждения уже настолько близко подошли к еврейскому пониманию вечности, что средневековые христианские и еврейские мыслители свободно включали труды Аристотеля и неоплатоников в свои философские построения.
Еврейское понятие вечности как вневременного существования принципиально отличалось от бессмертия античности. Приобщиться к вечности было возможно в стремлении к вечному Всевышнему путем сознательных и конструктивных усилий. Еврейский Бог, в отличие от богов античности, существовал вне времени и пространства. Он создает эти две необходимые категории существования человека, как и самого человека с некоторой целью, и в этом его отличие от вечных божеств восточных культов, не являющихся, как правило, богами-демиургами и не предписывающих миру трансцендентную цель. В отличие от греков, оторвавшихся от мифологии природы и родовой общины в пользу «рукотворного» полиса, Авраам уходил «из страны своей, из дома отца своего» не для того, чтобы самому основать новый род или новую страну, но для того, чтобы положиться на волю Всевышнего. Уйдя от развитой мифологии космоса и социальных отношений, Авраам не оказался один на один с зияющей пустотой космической вечности. Его сопровождал Всевышний, его господин, собеседник и деловой партнер в предприятии по преобразованию этого мира.
Взаимодействие смертных с Предвечным – это сотрудничество в достижении цели, в которой обе стороны равно заинтересованы. Создатель зависит от своих созданий – ведь уничтожить их и создать других, более подходящих, означает не только расписаться в своем полном поражении, но и уничтожить часть себя самого47. Кроме того, с некоторого момента Создатель оказался связанным данным им обещанием: Ною и его потомкам было обещано, что уничтожение человечества более не повторится. Символом этого обещания явилась радуга, появившаяся после прекращения потопа.
Сотрудничество, или более интимно для избранного народа, союз («брит»), предполагает наличие взаимных обязательств. Говоря современным сленгом, Создатель приложил к созданному продукту (человеческий мир пространства-времени) краткую инструкцию по эксплуатации и обещал, в случае соблюдения ее основных условий («семь заповедей сынов Ноя»), бессрочное гарантийное обслуживание. Эта инструкция и явилась основой этического кода отношений между людьми и отношений с окружающим миром.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вспомним, например, труд «Страх и трепет» Киркегора, построенный вокруг библейской темы связывания (жертвоприношения) Авраамом Исаака. Или, например, роман Томаса Манна «Иосиф и его братья», дающий подробное психологическое обоснование действиям библейских героев.
2
Эссе «Нравственность и Том Джонс» Честертон посвятил творчеству Генри Филдинга, английского писателя 18 в., известного в частности своим романом «История Тома Джонса, найденыша».
3
Здесь и далее имена и названия глав Библии будут даваться в русском переводе.
4
Цитата из книги Экклезиаст («Коэлет», часть Танаха, седьмая книга писаний), авторство которой традиция приписывает царю Соломону.
5
По законам, действующим в те времена в районе Ближнего Востока, рабыня, родившая хозяину сына, уже не могла быть продана. Если от нее почему-либо хотели избавиться, то ее можно было только освободить, но не продать. В Торе Агарь называется Агарь-египтянка, т. е. она была родом из Египта. Туда и отослал ее впоследствии Авраам. Путь из Беер-Шевы, где стоял Авраам, до Египта недолог, но Агарь не захотела возвращаться домой и направилась не в сторону моря в Египет, а в пустыню, где ей явился ангел-посланник Всевышнего.
6
Раши – принятая в еврейской традиции аббревиатура имени Рабейну Шломо Ицхаки (1040 – 1105 гг., Франция). Крупнейший средневековый комментатор Талмуда и один из классических комментаторов Танаха.
7
Эта же идея имеется в комментариях Сончино: «Приказ Всевышнего не содержит слова, которое указывало бы на фактическое заклание жертвы, хотя само по себе выражение „поднять то, что поднимается“ понимается как принесение жертвы по всем правилам… Авраам как праведник, стремящийся исполнить волю Всевышнего никогда не искал удобных для себя объяснений, не стремился к толкованию слов Всевышнего так, чтобы сделать задачу, стоящую перед ним, или испытание более легкими. Он всегда понимал слова Всевышнего в соответствии с их простым и четким смыслом». http://www.machanaim.org/tanach/a-beresh/inda04_3.htm
8
«Увидела Рахиль, что не родила Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову: «дай мне детей, а если нет – я умираю. И возгорелся гнев Якова на Рахиль, и он сказал: «Разве я вместо Всесильного, лишившего тебя плода чрева?» (Бытие, 30:1—2).
9
Так, например, количество посвященных Израилю резолюций Комиссии по правам человека при ООН (позднее переформированная в Совет) превосходит количество резолюций по всем остальным странам вместе взятым.
10
Подойдя к границам Земли Обетованной, Моисей послал глав 12-ти колен на разведку. Пробыв 40 дней в Земле Израиля, десять разведчиков сосредоточили свое внимания на опасностях, описывая землю, населенную великанами, перед которыми «мы маленькие, как кузнечики», и только двое хвалили землю, «текущую молоком и медом». В результате народ испугался, стал плакать и запросился обратно в Египет, за что и был наказан Всевышним 40-летним пребыванием в пустыне.
11
Здесь можно, например, сослаться на обещание Всевышнего Аврааму: «И благословятся потомством твоим все народы земли» (Бытие 22:17).
12
«Плач Иеремии» («Эйха») – одна из книг «Писаний», входящих в еврейскую Библию. Читается 9 ава. Здесь и далее цитируется перевод из книги «Дни траура», из-во «Маханаим».
13
Там же.
14
Там же.
15
Цитата из интервью с президентом колледжа Сапир профессором Зеэвом Цахором, опубликованном в газете «Макор Ришон». Интервью проводил Меир Узиель.
16
«Ибо из Сиона выйдет Тора и из Иерусалима – слово Господне» (Исайа, 2:3).
17
Семь заповедей потомков Ноя («Торат бней Ноах») – заповеди, данные Всевышним всему че-ловечеству, являющемуся потомками Ноя, еще до вручения евреям Торы.
18
Например, в 2003 году премию за лучшую израильскую книгу получили проф. Б. Зисер и А. Коэн за книгу «Раскол между религиозными и светскими».
19
Здесь под названием «ортодоксы» мы объединяем всех евреев, выполняющих требования иудейской традиции – Галахи, без относительно к тому, к какому из ортодоксальных течений они принадлежат, являются ли они «сионистами» или «ультраортодоксами».
20
Данные последнего опроса, проведенного исследовательским центром Гутмана при израильском Институте демократии, были опубликованы в начале 2012 г. В опросе участвовало более двух тысяч израильских евреев. Вот некоторые из результатов в сравнении с подобным опросом, проведенным 10 лет назад. Только 3% опрошенных определили себя как светские атеисты (10 лет назад, число таких людей было вдвое больше). 43% назвали себя просто светскими (46% 10 лет назад), 32% традиционными (33% в прошлом опросе), 15% религиозными сионистами (11%), а 7% религиозными ультраортодксами (5%).
21
В ходе указанного выше опроса, 80% опрошенных заявили, что верят в Бога (77% в сделанном за несколько лет до того опросе Института социологических исследований «Дахаф» под руководством д-ра Мины Цемах), 72% убеждены, что молитва способна улучшить положение человека. По поводу традиций 94% считают важной церемонию обрезания, 92% – обряд траурной «шивы», 91% – бар-мицвы, 90% чтение поминального кадиша, 86% похороны по еврейскому обычаю, 83% церемонию бат-мицвы, 81% традиционное бракосочетание «хупа».
22
Синедрион (Сангедрин) – во времена существования Храма высший судебный орган в каждом городе. Также существовал Верховный синедрион, в состав которого входили когены и левиты, который обычно возглавлялся первосвященником. После разрушения римлянами Храма и Иерусалима Синедрион был восстановлен мудрецом Йохананом бен Заккаем в Явне уже не в качестве суда, а в качестве галахической академии с законодательными функциями. В изгнании Синедрион в том или ином виде просуществовал до 5 в.
23
Сегодня в мире насчитывается около 13 миллионов евреев, причем Израиль по количеству евреев превосходит любую из диаспор. Динамика также складывается в пользу Израиля: количество евреев в Израиле постоянно возрастает, а в диаспоре уменьшается. Ведущий специалист по еврейской демографии профессор Серджо де ла Пергола из Еврейского университета в Иерусалиме предполагает, что численность евреев в метрополии и диаспоре сравняется к 2030 году; другие ученые считают, что это произойдет десятью годами ранее.
24
Еврейская традиция (Галаха) считает евреями тех, кто родился от матери-еврейки или прошел ортодоксальный гиюр. Таким образом, потомки смешанных браков еврея и нееврейки для того, чтобы считаться евреями, должны проходить процедуру гиюра.
25
Определение преобладающего типа власти в модерном государстве как рационально-бюрократического принадлежит классику социологии Веберу, который противоставлял его власти, опирающейся на историческую традицию или на харизму властителя.



