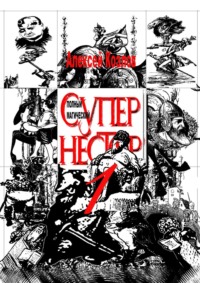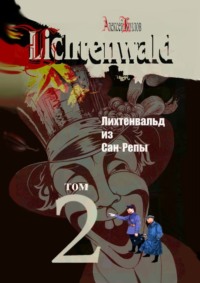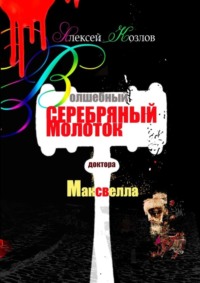Полная версия
Городъ Нежнотраховъ, Большая Дворянская, Ferflucht Platz
***
Как близка была победа, как святы были наши чаянья!» – так говорил Алесь Хидляр, великий пророк нашего времени. Так он говорил. Он жил во дворе, в котором жил не то Троцкий, не то Троицкий. Впрочем, это всё равно, не в коня корм, как говорится!
– Ты видел, там был кельтский крест? – спросил однажды во время просмотра неизвестной телепередачи никогда не унывающего художника Фому Птолемеева Алесь, – Хочешь, я верну кадры древнего времени, покажу тебе всё, как было!
– Не надо!
– Почему не надо?
– Потому что ну его в..пу! Ничего не изменить всё равно! Надоело всё!
– Как в..пу? Слушай, ты, – жертва «Макдональдса»! Кого в..пу? Кельтский крест – в..пу? Что ты говоришь! Надо никогда не сдаваться, верить в лучшее! С тех пор, как ты перестал собирать пивные кружки, твой характер стал явно портиться! Неужели уже вокруг тебя нет ничего, что цепляет твою душу и наполняет её интересом?
– Всё в..пу! Пивные кружки – в..пу! И в первую очередь – крест! Я повторять не буду, если ты не уразумел! Тоже мне, рационализатор! «Золотая мышь Фиглелэнда»! Кружки! Крест! Конечно – в..пу! Наижопейшую..пу! Всё туда! Всё! Чохом! Вали кулём! Надоело!
– Может, всё-таки на фиг? Это не так амбивалентно! Не так априорно!
– Можно и на фиг! Но лучше в..пу! Точнее! – и тут его, как сильно увлекающегося порнографической этнографией, – понесло, – Фига, могу заметить, древнее и уважаемое людьми дерево! Фигу можно засунуть в..пу, а само фиговое дерево, как ты знаешь, нет! Это прихоть Провидения, некий парадокс, так сказать, но между тем… между тем… Мало того, что фиговое дерево круглый год даёт сладкие плоды, но к тому же листья этого дерева всегда использовались художниками и скульпторами для сокрытия самых интимных мест на скульптурах! Почему! Бог знает! Фиги бывают по происхождению африканские, малайские, исрульские, греческие, хотя, надо признать, у греков они называются ещё смоковницами. Исрультяне по древней традиции называют их «ефигонами». Хотя фиги всё же много выше смоковниц, это незыблемо по моему дилетантскому мнению, которое я уж точно никому навязывать не буду! Фиги французские по своей сути склизские и вёрткие, немецкие фиги крупные и стойкие в бою, как никакие другие, наши фиги мелкие, но очень кислые, твёрдые и обычно с первозданной грязнотцой! Но очень терпеливые к термической обработке! К тому же чрезвычайно морозостойкие, злые и весьма трудносрываемые с деревьев! Это сильное качество! Иной раз, сколько наше фиговое дерево не тряси, наши фиги всё равно держатся на нём, не опадая! И при этом мне кажется, что у китайцев фига необычайно маленькая, ещё более грязная, чем здесь, и отчего-то донельзя корявая и кривая! Да-с! Кривая, я бы сказал! Но и её нельзя сбрасывать со счетов, как показала история! Нельзя! Фиги эпохи Дзин были конечно помпезнее мао-дзедуновских, но все они вкупе при довольно различимых отличиях, имеют нечто общее в своём гносисе! Но всё же доревнекитайская фига более привлекательна, чем большие, трудолюбивые, правдиво-изжопные, ко всему приспособленные, до одури изменчивые фиги моих земляков!
О, Фига моей Родины! Как хороша ты, как свежа под солнцем! Какими страданиями, какими трудами взлелеяна ты под холодным северным небом! Как много аллюзий и ассоциаций возникает при этих немудрёных словах! И каких ассоциаций и аллюзий! О-о! Сколько этих фиг, давась и икая, морщась и сблёвывая, чертыхаясь и проклиная, съел и таки переварил, усвоил мой великий всеядный народ! О-о-о! Не подсчитать этих фиг, не измерить! Мы живём в поистине фиговой родине! Это родина фиг! Фиглеленд! Divine Figleland! Как любим мы тебя все, все, кому было дано право случайно уцелеть в горниле тяжких испытаний, в юдоли тягостных раздумий, в серале поисков своего уникального «Я», испытаний, по воле небес выпавших нам на долю – всем, кто на своей шкуре прочувствовал священный удел быть твоим гражданином, твоим сыном и защитником! О Родина! Наши сердца бьются всегда рядом с тобой! Мы помним тебя, мы чтим твою строгую, учительскую доброту! Мы несём в сердце твои бесценные уроки! Эта доброта не была всепрощенческой, совсем нет, наоборот, это была почти злая доброта! Жестокая, свирепая доброта! Ты – наша первая, лучшая учительница! Ты учила нас деятельному добру, взаимопомощи, а потом научила и индивидуализму и одиночеству! Это были великие уроки, величайшие уроки жизни! И никогда, и ни в чём мы не можем тебе отказать! Мы не в состоянии даже кинуть тебя, как ты всегда кидала нас в минуты горести и испытаний! И вообще немецкие бомбёжки не оставили на лице этого города таких следов, какие оставила незабываемая созидательная деятельность последнего губернатора! Я, собственно говоря, об этом и хочу рассказать! Просто боюсь, что слеза умиления, уже готовая вырваться на свободу из моего левого глаза, может застить свет и помешать записям! Я постараюсь! Не подведу! Я всегда боялся в чём-то подвести кого-либо! За дело, друзи! За дело!
«За работу, друзья, за работу!Мы идём по великой стране!Мы посадим сады!Золотые плодыСоберём и подарим стране!»Так мы всегда и делали – всё отдавали этой как бы стране! А она нам в ответ – фигу показывала!
Мне вспомнилась моё детство, вспомнилось, как летом уже невесть какого года в прекрасный летний день я сижу одиноко у балконной двери своего дома, весь залитый солнцем, маленький мальчик, стойкий оловянный солдатик правды, и упорно складываю крепость из деревянных кубиков. Тих мой дом, и никого в нём уже нет. Солнце льётся из большого окна. Все куда-то ушли на время. Настанет момент, когда спустя годы дом мой снова опустеет, теперь навсегда, и я, взрослый, знающий всему цену человек, ни на что уже не надеясь и никому не веря, вновь буду недвижно сидеть на полу у той же балконной двери, гнать от себя дорогие образы и от невыносимости плакать безысходно, и вспоминать былое моё несбыточное, незаслуженное давнишнее счастье.
Тих мой дом и наполнен покоем. И сейчас я спокоен сам, ибо мои краеугольные камни – свет мира, вечные мои родители и вера, названия которой никто никогда не придумает- теперь навсегда со мной. Навеки в моём сердце.
Глава 2
В которой присутствует дальнейшее Лирическое отступление Автора, всуе цитирующего своего гиройя.
Из-за острова Буяна,Из могучего бурьянаПоявились три бомжа,Одна мышь и два ежа.Заноза в моём недреманном сердце! Как я тебя люблю!
«На днях к нам приехал Чунчо Мар со своим знаменитым оркестром «Поникшей Креольской Берёзы». Он выступал здесь в пятницу, в зелёном театре. Он, по-правде говоря, на своей родине давно выпал в осадок, и в своём родном Берлистане никакой популярностью не пользуется уже лет сто, но сюда приехать можно! Почему бы не приехать к нашим аборигенам?
А в субботу мы устраиваем прогулку с элементами порно! Так умирающий кактус-самец гоняется за засыхающим перекати- полем, не зная утоления…»
«Завидны дела твои, Господи, но результат их часто плачевен! Тут есть какая-то странность, и я не могу её до конца осмыслить. По крайней мере, пока! Ладно, рано или поздно разберёмся! Не Боги горшки жарят!
Мир всегда кого-то убивает и тот, кого убивали, никого уже не будет жалеть других! Если кролик пережил вивисекцию, это его собственная заслуга! Чего мы только не видели тут, в этой куче …, которую мы по привычке называем родиной. Последней напастью, последовавшей после Великой мелкобуржуазной революции, было нашествие Харистиан. Всё это, видит бог, проковыляло перед моими глазами, и я был потрясён грянувшими изменениями. Отбрыкивался я от них, как мог! Тогда навалились невесть откуда взявшиеся иеговисты, брахманисты, буддисты, братья-предтеченцы, секты пустынников, руководимые провинившимися милиционерами, секта Муна волхвовала по радио целыми днями, по улицам стали бродить буддисты в простынях и с барабанами. Но главным было постепенное возвращение Хариста и его гоп-компании.
«Люди, призывающие меня впасть в детство Харизтианства, либо неполноценны, либо хотят, чтобы неполноценным был я. Не дождётесь, друзья! Уже то, что в моей изнасилованной морально стране появляются, пока что в небольшом количестве, здравомысленные люди с мировоззрением, подобным моему, является свидетельством наступления конца многовекового Харистианского кошмара» – так говорил пророк Алесь Хидляр, стоя на горах и видя подлунный мир. Оставалось только заговорить для простых людей.
«Новая жизнь! Нова вита! Как ты прекрасна! И как мало мы тебя порою ценим!
Далеко не все любят свою родину так, как любят маму.
Далеко не все любят свою маму в той же степени, как любят деньги.
Но жить без мамы и без денег на родине совершенно невыносимо. Можно впасть в отчаяние сразу. Это я знаю по своему опыту. Совершенно невыносимо жить на родине без денег и мамы! Лучше жить на необитаемом острове Борнео без мамы с деньгами, чем на родине без мамы и денег!
Но лучше всего жить при деньгах, с мамой и вдали от родины!
Таково моё введение!
Что у вас в оркестре за чмошные трубы?
Оркестр, акупунктуру!»
Глава 3
Первое лирическое введение щитателя в НежнотраховЪ с хором и кастратами в вертепе.
Это был город. Вокруг кривоватой церкви лепились чёрные людские гнёзда, а на скале Балон высился древний трактир «Святой Мэтью», похожий на чудной англиканский собор. По основным направлениям шли и шли люди в попытке найти своё место под светилом.
Был и настоящий храм Девы Поклюс, несколько раз разрушенный и ещё большее число раз возведённый с малыми дополнениями. Свой кардинал Дыромонк Престибецкий устроил от него децкий крестовый поход, по западным аналогам, поход, столь скоро окончившийся слезами и прахом. Но миллион гривен, испрошенных на тапочки для походных детишек, удалось ловко распихать по карманам верных огородников.
Храм Девы Поклюс был облюбован фортуной уже в годы ранней юности Нежнотрахова. Желтоватые, залоснённые миллионами касаний и поцелуйчиков мраморные колонны источали запах благородной старины, лестница в обширный придел, украшенный сухопутным жемчугом и бараньими рогами, воспринималась путём на небо, и с первого взгляда на это чудо нежнотраховского зодчества становилось понятно, что есть несомненное благо. Сколько благодарный касаний знали эти ветхие стены, сколько лобызаний осталось запечатлёнными на завозном мраморе, сколько мирных слюней протекло по запечатанным в стекло ангелам!
В годы нашествий многие захватчики замышляли разрушение нежнотраховской святыни, и стеной неодолимой на их пути всегда становился одинокий протоирей Ераспид Кобельков, со своими желчными челобитными грамотами. Всегда важный, нёс он прошения о помиловании божьего места и подписывался всегда одинаково, размашистой вензелястой подписью – «Ераспид Мокеич Кобельков – адноптер».
В то время сильно изменённый поворотом Земли климат и океанические пальмы, заполонившие округу, позволили выписать из Пенджаба целое стадо величественных верблюдиц, удачно оплодотворённых впоследствии мирным ослом Гришей. Алёшинские казармы, нынешнее вместилище защитников Нежнотрахова, были построены за какие-то полгода именно для содержания быстро увеличивавшегося верблюжьего стада, и там содержались до времени коровьей чумки, в 17 веке положившей конец верблюжьей инициативе. Здание украшено изумительной люкарной с глубоким рельефом по краям и идущим по фронтону ветвистым растительным орнаментом, из которого торчат высокие жирафиь головы. Хотя мотивы орнамента явно не здешние, но общее композиционное оформление здания оказалось на удивление удачно, что дважды было отмечено заезжими шпионами и путешественником Адальбертом Гринбергом.
Бипол Мантуанский – беглый римский грек, а по совместительству переводчик и поэт, по ошибке занесённый сюда и осевший в Фиглеленде, впоследствии стал недурственным архитектором, и даже запроектировал основные оси Нежнотрахова. Он был настоящим мастером сельской архитектуры, и строил как дощатые водонапорные башни, так и соломенные больницы в ключе жизни. Особенно ему удавались беременные дорические портики, обильно украшенные шапкозакидательской беллетрестической лепниной. Они смотрелись с особым шиком в обрамлении сосулек и свисавших на лоб пластов снега. Город в то далёкое время уже был, и был он хорош!
Вот уже вторую тысячу лет жители города Нежнотрахова неистово верили во второе пришествие Изоса Хориста, назначенного богом Дионис-прокуроса Главным Прозерпулом. Столетиями они верно ждали его, всецело полагаясь на заверения бесчисленных святых столпников-самодержцев, время от времени наводнявших, как черви, благословенную землю Фиглелэнда.
Вот что мне пришло по этому поводу в голову: в мире нет никакого добра и зла. Есть поколения, в которых то или иное считается большинством добром или злом. Они могут ошибаться, ибо точка зрения любого сообщества ущербна. Вот христиане – в Римское время это был предмет насмешек, не было ничего презреннее и маргинальнее. А посмотрите, что сделали двадцать веков обработки. Многие хвалят, поддерживают, но кто отменял римскую точку зрения на это. Или Гитлер. Это был бог немцев в тридцатые годы. Нынешнее мнение о нём никак не может отменить точку зрения поколения, которое поголовно легло за него. Так что же есть истина, не говоря уж о добре?
Если наивная уверенность нескольких сумасшедших, или, что более вероятно, кучки лжецов в оживление после смерти их кумира, толкнула миллионы людей в многовековое умопомрачение, значит ли это, что они были правы, и умершее может ожить после смерти? Нет, это значит, что эти миллионы были жалкими, безвольными людьми. Всего лишь!
Правящая Баптистерия Тода назначала всего лишь одного Поджидателя и двух Свидетелей Явления, которых после смерти замещали по конкурсу, а их остатки помещали в Паноптикум на постоянный обзор в трёхлитровые банки со сладким керосином.
Время шло. Изоса Хориста ждали пожидом. Звонкими литаврами его звали на праздник жизни, кипевший на холмах. Хорист упорно не являлся, медлил. Сублимировал. Саботировал Страшный Суд. Но даже и тогда город НежнотраховЪ существовал вопреки всяким пресным прогнозам. Расцветал город мечты. Хорошел. Торговал немыслимым товаром и серыми собачьими чебуреками. Выпускал газеты и глинистое водяное пиво. Снимал в подполье дивные порнографические фильмы, чем основательно восполнял недостатки местной кинодокументалистики. Приноравливался к новым условиям существования. Пытался собрать новый урожай. Часто это у него не выходило, но шумели всегда страшно, и вывозили урожай из грязи танками и матерком. Что делал он ещё? Чем был славен? Обретался в благе. Впрочем, мы об этом говорили. Город обзавёлся наконец своей промышленностью – целыми днями на горе коптил орденоносный комбинат ТРАХНЕФТЕХИМ имени Дугана Лэнина. Да, ещё в городе было большлое поселение преторианских цыган, появившихся невесть откуда в середине седьмого века новой эры.
Бу-угагагаааа! Ликование полнит сердце автора, когда он обращает взыскующий взор к своей единственной, но уже ненаглядной родине.
О НежнотраховЪ! НежнотраховЪ! Бу-угагагаааа! Город моей юности! Бу-угагагаааа! Город моей мечты! Как я могу позабыть тебя! Город Первого Поцелуя! Да святится имя твое! Бу-угагагаааа! Снова и снова возвращаюсь я к тебе на крыльях соловья, как верный твой сын, возвратившийся из странствий! К тебе лечу я в самых святых своих помышлениях, не задумываясь совершенно ни о чём! К тебе направлен мой взыскующий взор, моё сердце! Опять и опять я возвращаюсь к тебе в своих самых интимных помыслах и мечтах! Только ты способен согреть моё горестное, невесёлое сердце, только ты! Ты – моя милая родина! Только ты даришь мне минуты катар-сиса, освобождая мой третий глаз от мирской слепоты и безверия! Ты только! И твои легенды и сказки – чудные сны славного народа – НежнотраховЪских жлобенян – милы мне. Бу-угагагаааа!
Что можно сказать о тебе, мой милый город? Многие твои верные аборигены не любят тебя, панюки, брезгают тобой, понукают, но пусть это безобразие навсегда останется на их нечистой совести! Никто не достоин быть любимым так, как ты! Не правда ли?
Итак! Вперёд! Не томите меня, земляки! Зёмы стоеросовые! Настал миг! Слово изрыгнуто будет! Плащаницу мне, плащаницу! И огня! Чтоб на всех хватило!
Говорили как-то хорошие люди, что ты, гордый НежнотраховЪ, до потери пульса похож на грязножопый Гэворонеж! Я не знаю, сказал ли я эту фразу вкрадчиво? Сказал ли её амбивалентно? Была такая буква, не спорю! Это совершеннейшая ложь, и тот, кто так говорит, очень рискует нарваться на мою святую отповедь – он не просто похож на Гоморонеж, он есть просто его зеркальное отражение! Не знаю, являются ли эти города городами-побратимами, но я бы их точно сделал такими! Они словно рождены для паналуального побратимства и уголовной панихерии! Так сказал я, ибо рёк.
О мой НежнотраховЪ! Твоё появление на скрижалях истории надёжно укрыто от придирчивого историографа тьмой веков и мхами тысячелетий. Красиво сказал? Я и сам знаю!.. И между тем…
«Архилы Фиглелэнда» – знаменитый труд голландца Яреса Поупа, явленный миру знаменитым датским коллекционером Дэвидом Болтундецсом, являются основным и самым проверенным источником по древне-Гнилоурской историографии, и мы не применём им широко воспользоваться. Книга к нашему прискорбию написана очень витиеватым и трудным языком, поэтому мы обратимся к её пересказу, сделанному в 18 веке знаменитым столпником Аквилой Баксолюбом Вторым, автором трёхтомного сочинения «Бог и Револьвер». Но в ней есть нечто, придающее рассказу особую ценность – рисованный вид Нежнотрахова 16 века. Сделанный почти профессиональной рукой с мелкими и явно различимыми деталями, рисунок уносит нас в приснопамятную, доисторическую даль. Разбросанные в беспорядке чёрные избушки, накренившийся пакгауз, пожарная вышка с круглым окном, Дворей Губернатора Эспалова, покрашенная почти вся жёлтой акварентиновой красочкой церковь Покемоницы Пражской, вылезшая наполовину из рисунка баба с ведром и мужик с мешком на переднем плане – вот её общее содержание.
Первым упоминаемым в ней героем здешней истории по праву можно считать разбойника по имени Колобок-Жопа-Костяная Нога. Несмотря на прихотливое имя, данное ему ещё при рождении, жил он в расхристанном бомжеватом гнезде на дубе, стоявшем посреди Тридиаконовой пустоши и хранил награбленное у гнилоуров добро в подвешенных на ветвях вымытых дождями конских черепах. И в сущности был честен и прям, как кишка. Отправлялсь на разбой, он и одевался как натуральный разбойник – в чёрную подвязанную кушаком доху, соломенную шляпку с дырой посредине, смешные пламзевые боты, а через вытекший гляз перевязывал ворсистую бумазейную бечеву. Добра в дупле к концу года было много – медведь в берлоге и заяц в утке. Учёт ценностей разбойничья душа вёл на пальцах и в уме, причём трёх уцелевших, но ввиду ночной жизни земляков многого к концу жизни не досчитался. Так продолжалось тридцать лет и три месяца. Потом его арестовали и несколько лет держали в темнице Кровавого Аристида – городской тюрьме, славной своим ужасающим восточным произволом и изумительными пытошными камерами в бездонном подвале. Потом по случаю очередной коронационной амнистиии он был отпущен на свободу, писал книги, полные тайного гороскопного всезнания, пошёл воевать за рабочее дело, потерял руку, загодя попал в турецкий плен, странствовал по всей Средней Азии с византийским тараканьим цирком «Геркулес», выпуская огненную струю из всех отверстий, обосновался в Гелионолопулосе, принял крещение, поселился на брегу Средиземного моря в селении Бусламжи, что неподалёку от Килмарнока. Прекрасная вдова приветила его на жизненных дорогах и согрела телом и словом.
Там он развёл изумительную красную капусту, поехал на ярмарку во Фрисбенд, и там был съеден пришлыми янычарами по случаю Второго Византийского голодомора. Это было в 5876 году по некоему летоисчислению, названия которого я не хочу приводить.
Тут автор вынужден отвлечься и заявить читателю, чтобы читатель не удивлялся скачкам во времени, какие мы неминуемо будем совершать. Отчасти это будет происходить от неуёмного желания автора сразу схватить быка за рога и одним махом показать то, что кипит в его голове, отчасти оттого, что город, описанный в нашем романе, тоже организован не ахти, а потому несколько сумбурный стиль изложения какнельзя лучше соответствует духу нашего ненаглядного города.
Приснопамятная древность сохранила легенду о гигантском злокозненном вампире, возжаждавшем и наконец потопившем древний город в коллоидном дерьме. Никто не верил, что такое возможно. Он прилетел в Фиглелэндаю из монгольских степей на перепончатых костяных крыльях и упал на её жителей, как гром среди ясного неба. Его огненное дыхание обратило ветхий, как шушун, дровяной город в полыхающий костёр. Его когти прорыли в гранитной земле глубокие арыки и они снабжают ныне город водой. Огромный, волосатый вампир, из пасти которого доносилось нестерпимое, чудовищное зловоние, явившееся причиной смерти трёхсот шестидесяти пяти тысяч семьсот двадцати семи человек, не считая крепостных крестьян, собак, ежей и многочисленных рабов, он решил не только спалить город, но и утопить его. Но как сделать такое, он не знал, и не зная того, полагался больше не на знание и опыт, а на судьбу и всезнающее Провидение. Наконец случай проявить себя представился! Великан встал на два холма обеими своими гигантскими ногами, подобно Родосскому Гиганту, с плоскими обращёнными внутрь ступнями, на конце каждой из которых было по семь когтистых пальцев, каждый не меньше семитонного трейлера, на каждом из которых сиднем сидело по семь маленьких гномиков-людоедов; каждый из которых норовил вычёсывать семь блох, встал, напоминая величиной и статью греческого Родосского Гиганта, как мы уже говорили, по меньшей мере, встал, выпростал из шёлковой накладной гульфищи своей зелёный бархатный, мочевдохновенный член – член, схожий размерами и формой с Эйфелевой башней, и головкой, напомиющей Эйфеля, и струёю, подобной грозному цунами, захохотав, смыл напрочь весь вечный город: жалкие мещанские пригороды, прачечную с недоеными прачками, парадную центральную часть города вместе с голубой архивной магистратурой, давешние буйные окраины с множеством косо поставленных кизяковых многоквартирных инсул повышенной планировки и населённых по преимуществу говорливой беднотой, кривые паникейские слободки чуть ниже по горе, с петухами и облезлыми от злости и недоедания псами, тучный серовато-зелёного оттенка собор Фавна и Глома вкупе со всей прожорливой, потешной монашнёй, привалившей тогда к обеду паствой, ризницей с иконами работы греческого мастера Коитуса, чуланами с церковными запасами кошерной писщи – мыла, кагора, османской гречневой каши и первоклассного норвежского свечного сала, крестами и монахами – гузнами-вертопрахами, не ко времени съехавшимися на внеочередной 396-й церковный Мытарский собор; смыл за компанию пожарную каланчу с пожарниками и поджигателями в оранжевых японских распашонках, грозными клепсидрами, закатившимися под мельницы и шкафы катяхами, одиноким плачущим капельмейстером и бранспойтами, смыл всё, и в завершении своего немыслимого демарша смыл также целый сонм никем неучтённых малюсеньких ветхих домиков, в которых ютились самые честные, самые рядовые граждане Фиглелэнда – гнилоуржанцы. Как говорится,
Мир противен и жесток —На страну напал поток!Смыл корову и быкаСмыл гнилого лесника,Смыл телегу с мужиком,И попа с ночным горшком,Смыл собор, дорогу смыл,Смыл погост с чредой могил,Всё он смыл, но я узрел —Кол с казнёным уцелел!О как!
Английская народная поэзия! Цинизм народа – есть его вера и спасение! А вы знаете… Но вернёмся к нашему повествованию, ибо несть числа препон ему, но мало помощи отовсюду!
Они были простыми обывателями и не желали для себя такой беды. Они всегда желали всегда беды своим соседям, но себе беды никогда не желали. А тут случилось такое, что навсегда поколебало непоколебимые устои их жизни. Жёлтая ревущая струя не пощадила никого. Митрич, зацепившись штанами за трубу, долго висел, и уже надеялся на спасение, но раз уж полез в картман, за размокшим табаком, то сорвался с трубы и с воем канул в ревущей воде. А ведь он был лчностью не простой – стратель земли гнилоурской, герой Фиглелэнда! Женщины, дети, старики, аксакалы – никого не минула чаша сия – все погибли в мутном горячем потоке. Захохотал великан хохотом громким, ахитаковым, солнцу лапы раскрыл, завыл аспидно и отвязно, веселилось его зловещее сердце, истомой истекало. А потом бегал среди потока и вылавливал конечностью уцелевших. И шмякал их о землю, и сжималось от него сердце настоящего патриота Афанасия Петровича Ривкина, стоявшего на инвалидной ноге у полосатой будки при входе в город. Шмяк! Шмяк! Шмяк! Неприятный то был звук, словно стеклом по пиле.
Таково было кровавое возмездие провидения городу за былые грехи его жителей, плата за безбожные происки и революционные позывы народных масс. Все оставшиеся в живых были в шоке и молили грозного великана ради бога остановиться, уйти и помиловать великий степной город…