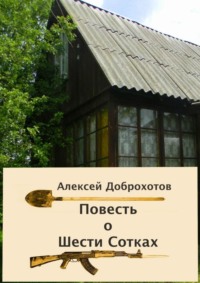Полная версия
Легенда о Пустошке
* * *
Марья Петровна встретила гостей возле дверей своего дома, словно ожидала прихода.
– Что же это ты, голубушка, с моим мужем сделала? – налетела на нее с хода Вера Сергеевна, – Посмотри, на кого он теперь похож стал. Чистое животное. Чем ты его опоила, что он после твоей настойки в скотину превратился? Говори, чем опоила?
Дед Афанасий, обмотанный веревками словно муха паутиной, извивался ужом между Анастасией Павловной и Василием Михайловичем, крепко поддерживающим его с двух сторон, и захныкал.
– Чем же тебе он не нравится? – улыбнулась знахарка, – Сама себе такого выбрала. Не хуже остальных.
– Я себе такого не выбирала. Он у меня нормальный был. Это ты его таким сделала, – закричала на нее раздосадованная супруга.
– Имела бы глаза увидать, увидала бы, – возразила Марья Петровна, – Увидала бы, не рыдала бы, на людей других не пеняла бы. Был туман, да расселся. Был обман, да открылся. Чужое ушло. Свое осталось. Душа обрела лицо. Получай его в чистом виде. Это и есть твой муж. Таков он был, таков он и есть. Хотел узнать, себя понять. Что открылось, то и встречай. Нечего на меня свой грех сваливать. Нет в этом моей вины. Себя вини. Ты его таким имела, ты его таким сделала. Ты сама. И больше никто.
– Врешь! Ничего, я такого не делала, – накинулась на нее Вера Сергеевна чуть ли не с кулаками, – Ничего не делала. Это ты его опоила. Это после тебя он ненормальным стал. Ведьма! Что б тебе пусто было! Лучше признавайся, чем отравила?
– Не я его приживала. Не я ему потакала. Нечего на меня пенять, – грозно сверкнула глазами знахарка, – Сама самогон варила, сама мужа поила, себя и вини. Скажи спасибо, что вообще жив остался.
– От самогона такого не бывает. От самогона с ума не сходят. Врешь! Врешь! Ведьма! – забилась в истерике самогонщица.
– Тебе ведомо. Твой мужик. Я все сказала, – сухо ответила Марья Петровна, – Вот начальство стоит, можешь жаловаться. Посетуй почему у тебя муж такой. Почему у меня в доме стреляться хотел. Отдала пистолет начальнику?
– Отдала, отдала, – ответил Василий Михайлович.
– Вот и ладно. Каждый свое вернул. Что вы еще от меня хотите?
– Скажи пожалуйста, Марья Петровна, – обратился к ней участковый, – Что нам теперь с ним делать? – он хотел было придвинуть к ней Афанасия, но тот в очередной раз криво извернулся, выскользнул из рук и плюхнулся всем телом на землю. Анастасия Павловна не смогла одна удержать вертлявого старика за предплечье. Оказался Василий Михайлович стоящим перед знахаркой с протянутыми руками, сцепленными наручниками.
– Манил в силки зайца, да сам в них оказался. Что, теперь и не выбраться? – улыбнулась Марья Петровна.
– Не получается, – смутился участковый, – Ключ потерял.
– Эка незадача, – улыбнулась она, охватила на миг ладонями запястья милиционера, а когда отняла, то руки Василия Михайловича оказались свободными, – Выброси их подальше, – протянула ему расстегнутые наручники.
– Вот спасибо тебе, голубушка! – радостно воскликнул участковый, растирая натертые за день руки, – Как я намучился, так намучился. Весь день снять пытался. Ничего не получалось. Это у тебя как получилось?
– Не бери в голову. Время всему научит, – уклончиво ответила знахарка, – А за Афанасия не тревожься. Запри на ночь. К утру поправится. Не кручинься, Вера, придет он в себя. Станет лучше прежнего.
Расстроенная супруга только рукой махнула, мол, такое великое свалилось на нас горе, что мне уже никакие утешения не помогут, все равно плохо.
– Чужих никого не видела? – поинтересовался довольный милиционер, – Негра, например, двухметрового?
– Нет тут такого, – отрицательно покачала головой Марья Петровна, – Все здесь. Перед тобой стоят. Чужих не ищи. Хотя и своих порой разглядеть трудно.
– Да, особенно если зрение плохое. Я так и думал, – согласился Василий Михайлович, бросив в сторону Элеонору Григорьевны взгляд полный немого упрека.
* * *
Заканчивался долгий волнительный день, полный неожиданностей и страстей. Пенсионерки окончательно вымотались, оголодали, вернулись на двор Веры Сергеевны еле живые. С бесноватым стариком теперь один участковый мог справиться. Доставил его прямиком в сарай, где сам провел неспокойную ночь. Обмотал деда теплым стеганным одеялом, что выдала присмиревшая супруга, и запер на амбарный замок.
Пока бабы дружно прибирали дом после погрома, да готовили ужин из того, что осталось нетронутым в дальней укромной кладовке, милиционер наносил воды в баньку. Сместил самогонный аппарат в сторонку, протопил печь и, пока свет проникал через узкое окошко, с наслаждением попарился горячим парком с душистым веничком, окончательно выколотив из себя грязные наслоения прошлого.
Затем женщины сообща при свече успели наскоро порадоваться мылу, а после все вместе сели за стол и основательно подкрепились.
Элеонора Григорьевна первой затронула больную для всех тему.
– Значит, получается у мужа твоего белая горячка. С перепою такое бывает, – со знанием дела произнесла она и добавила, – Какой с больного теперь спрос.
– Да, – согласилась Вера Сергеевна, – Не понимал, что делал.
– По мне так, очень даже понимал, – скептично покачала головой Тоська.
– Что ты хочешь этим сказать? – вскинула гневные очи законная супруга, – По-твоему, он был в своем уме?
– Она хочет сказать, что прельстила его своими прелестями, – усмехнулась бывшая учительница.
– Да уж не худая, как змея очкастая, – оскорбилась вдруг Тоська.
– Я змея? Это ты жаба, – сделал ответный выпад пострадавшая дама.
– Я жаба? А ты глиста! – отбила бывшая доярка, сжав круглые кулаки готовые к бою.
– Я очень даже привлекательная дама. Для тех, конечно, кто понимает толк в женщинах, – оскорбилась в свою очередь Элеонора Григорьевна.
– Да где ты найдешь таких, которые бы понимали? Таких и на свете то не существует, – усмехнулась Тоська, почувствовав явное превосходство.
– Это для тебя не существует, – зло отрезала бывшая учительница.
– А для тебя существует? – съехидничала Анастасия Павловна.
– Хватит! – остановила их хозяйка, – Незачем нам собачиться. Как вам не стыдно. Гость в доме. Что о вас люди подумают?
– Чего хотят – то пусть и думают, – надула губы Анастасия Павловна, – Какие есть. Скрывать нечего. Доскрытничались. Средь бела дня в дому гадят.
– Прости ты его Антонина, – сложила на груди руки Вера Сергеевна, – Не со зла он, с болезни.
– А с Элькой тоже с болезни? – возразила Тоська, – Самец.
– И с нею с болезни. Скажи, Элька, не в себе же он был, правда? – с надеждой в голосе обратился хозяйка к потерпевшей.
– В себе, не в себе, какая теперь разница, – блеснула очками Элеонора Григорьевна, – Заперт в сарае и все. Завтра участковый с ним разберется, что он понимал, а что не понимал. Меня другое волнует: кто ущерб возмещать будет? Он же у меня все пожрал. Все перепортил. Переломал. Посуду переколотил. Все видели. Даже участковый видел, не даст соврать. Как мне теперь жить прикажете? Чем питаться? У меня продуктов больше не осталось. Все выворотил. Все нашел. Сходи, погляди, что в доме твориться. До сих пор не убрано. Все как есть, на полу валяется.
– Действительно, – встрепенулась Анастасия Павловна, – У меня тоже в дому все перепорчено. И как он это понимал, где у меня что спрятано? Все ведь нашел, изверг.
– В период психических отклонений могут особенно обостряться чувства восприятия, – сухо констатировала бывшая учительница.
– Чего, чего? – недоуменно спросила бывшая доярка.
– Это по-научному. Если просто, то нюх у него хорошо работал. Он же ненормальный. Вот нюх ненормально и работал, – пояснила начитанная Элеонора Григорьевна.
– Мне все равно как по-научному, только он все перерыл и попортил. Кто за него заплатит? – поинтересовалась Тоська.
– Давайте-ка, девчонки, настоечки лучше выпьем, – предложила Вера Сергеевна.
– Сама пей свою настойку. А я не буду, – отказалась Анастасия Павловна.
– И я не буду, – поддержала ее Элеонора Григорьевна.
– А вы, Василий Михайлович, не откажетесь? – спросила хозяйка, протягивая ему бутылку.
– Нет. Спасибо. Может в другой раз, – вежливо отклонил предложение участковый, – Мне на сегодня хватит. Я лучше спать пойду. Устал что-то. Спасибо большое за ужин. Все было очень вкусно. Спокойной ночи, дамы. Желаю приятных сновидений.
– Чего это с ним? – удивилась самогонщица, когда за милиционером закрылась дверь в комнату, отведенную ему для ночлега.
– А у него, верно, тоже того, крыша поехала, – усмехнулась Анастасия Павловна.
– Это у вас поехала. А у него на место встала, – возразила Элеонора Григорьевна.
– Поехала или встала, какая теперь разница, – тяжело вздохнула Вера Сергеевна, – Пошли и мы, бабы, спать. Устала и я что-то. Тяжелый был день.
– О возмещении стало быть завтра поговорим? – снова напомнила о своем погромленная Элеонора Григорьевна.
– Ах, какая ты, Элька, мелочная, – сморщилась хозяйка дома, – Ну, конечно же завтра. Сил уже никаких нет даже смотреть на вас.
На том до утра и расстались.
* * *
Утром сарай открыли. Дед Афанасий сидел на самом верху стога сена, растрепанный и бледный. Связывающая его веревка валялась на земле поверх одеяла.
– Ну, кушать хочешь? – осторожно осведомилась Вера Сергеевна.
– Что это со мной вчера было? – осторожно поинтересовался старик.
– Ну, Слава Богу, поправился.
Афанасию во всех красках и подробностях на три голоса наперебой односельчанки поведали о вчерашних его подвигах, дали под конец ошеломительного рассказа горячего чая и отвели в баньку, где он хорошенько вымылся, содрогаясь от услышанного, после чего еще раз поругали, кто как умел, на разный лад и манер, пригрозив, что в следующий раз обязательно прибьют палкой.
– Другого раза не будет, – пообещал дед, – Сам, итить твою макушку, удавлюсь.
Выплеснув на старика остатки негодования, потерпевшие направились по своим домам: разгром прибирать, убытки подсчитывать, да счета готовить расстроенной супруге. Даже участкового заставили остаться еще на день, составить специальную бумагу. В ней Вера Сергеевна должна принять на себя обязательство до конца лета возместить каждой в натуре или деньгах стоимость причиненных убытков.
Весь остаток этого дня Афанасий провел в тягостных размышлениях. Имелось у него одно местечко облюбованное, недалеко от деревни. В тяжкие дни похмелья приходил он туда посидеть, на речку посмотреть, подумать.
На высоком бережку две пушистые березки распахнули кудрявые ветки над спокойной, глубокой заводью. Раньше в ней ребятишки купались. С песчаного дна ракушки доставали. Место глубокое, течение замершее, вдоль бережка пляжик узенький тянется. Теперь все кустарником с крепкой осокой заросло, дно заилилось. Но общее настроение словно замерло.
По небу покровительственно пушистые облачка проплывают. Вдоль берегов сосновый бор стройными рядами высится. Зеленый камыш шаловливо колышется. Безмятежно покоятся на воде широкие домовитые листья кувшинок. Медленное течение уносит в никуда тяжелые мысли.
Между деревьями скамеечка в две доски. Сам мастерил, примерно лет десять назад. Сел старик на нее, задумался о том, как жизнь неожиданно повернулась, и пришел к выводу, что она у него теперь совершенно никчемная. Сплошное сонное прозябание в ожидании спасительной смерти. Пустота. Существование подобное червю. Обыкновенному земляному червю. Каждый день, неделя за неделей, из месяца в месяц, за годом год таскается он неприкаянно по двору. Хватает то вилы, то лопату, то топор. Перед глазами сено, навоз, дрова. Смотреть на них опротивело. Жахнет с утра самогона, одуреет от сивухи, закружит пустая веселуха. Примнет на обед тарелицу щей да горячей картохи, уткнется вечером мордой в подуху и забудется в темном сне. Безрадостно, беспросветно, механически. Зачем так жить? Если только для того, чтобы жрать, так и без того сожрал уже много. Целый железнодорожный состав перегнал через собственные кишки. И что из этого вышло? Даже говорить об этом не хочется.
Усох определяющий стержень жизни, выпала ось вращения. Повис на старухиной прищепке, трепещется на ветру, словно застиранная простынь. Не оживят усохшую душу приевшиеся радости. Только и делает, что жрет, пьет, справляет нужду, мнет бабу, спит и снова жрет… Что-то в жизни сложилось не так. Что-то получилось не правильно. Не может человек превращаться в скотину. Не для того родила его мать, чтобы он ползал червем по навозной земле. Что-то должно быть еще, ради чего стоит жратву заготавливать.
Отчего померкли голубые глаза, почему угасли в голове дерзкие мысли? Откуда взялись две мутные пуговицы, что таращится на мир из под жидких бровей? Почему не полыхают озорным огнем очи, не бежит по телу энергичная дрожь, сердце не закипает больше, объятое жгучей страстью? Неужели остыла потухшая печь? Навсегда канули в прошлое безумные дни всеобъятного стремления к счастью? Была же и геройская стать, и кудри озорные, и бесшабашной молодости силы. На что все истратилось? Может, потерялось на пыльных дорогах сорок пятого? Или запуталось в острой лагерной колючке? Или затерли их тракторные гусеницы на необъятных колхозных полях? Как так получилось, что главное незаметно выскользнуло из самых рук? Прижимал же к самому сердцу страстное желание победить, выжить, преодолеть, построить и зажить полной мерой – радостно и сыто. Куда делась радость? Еда осталась, а счастье ушло.
Может быть, все началось в тот день, когда решил жениться на Верке? На той, кого так и не смог по-настоящему полюбить, как непреклонную Надьку? Прожил с женой, считай, полвека под одной крышей, а душой так и не сросся. Обитает каждый сам по себе, своими радостями живет, хотя одними и теми же делами занимается. Застелили общую пастель, настругали трех сыновей, вырастили, а все впустую. Ни одного не осталось. Хотел большой дом иметь, не хуже Красной избы, построил, да что толку. Стоит посреди леса, некому на него смотреть, некому в нем жить, некому восторгаться.
Видимо, с того все и пошло… Переломил любовь через колено, вырвал Верку из рук главного районного коммуниста, на зло неуступчивой Надьке, вопреки своему сердцу, как в плен у врага взял. Думал, победителем стал. Но победы на той войне не бывает. Себя поломал, Верку с пути сбил, Надьку в сторону отбросил. Три судьбы за один раз перекрутил. Разве это не зло? Вот оно и вернулось. Разъело медленно изнутри душу, превратило в труху, как муравьи крепкую сердцевину дерева. Сделал на зло, да этим же злом и крестился. Перетянулась судьба удавкой, свернула сердце на сторону, одичала присохшая душа. Какая тут теперь радость? Откуда прийти счастью? Вот и получилось, что стек на обочину, на людях хорохорился, да только все зря. Пошла жизнь наперекосяк. Протекла мимо, и толку никакого.
А ведь могло бы все выйти иначе. Мог бы и он рядом с Надюхой встать, коммунизм строить, на пару, в одном строю. Заводной же был, энергичный, догадливый. Легко встал бы во главе звена или бригады механизаторов. Даже в Правление колхоза войти бы смог, а там, глядишь, и стать Председателем. Ловко у него получалось трактора чинить. Иногда прямо в поле. Понимал это дело. Чувствовал технику. Поникал в самую суть проблемы. Даже два рацпредложения сделал по улучшению прицепного механизма. Премию за это выдали. Гордился тем. А мог бы и дальше пойти, в институт поступить, на инженера выучиться. Душа к этому лежала, к познанию техники, механизации работ. Тянулись руки к железу. Сверкала мысль. Звала ввысь. Тянулась душа, как стебелек к солнцу. Человеком бы стал, настоящим, по сути своей, не по виду.
Но свернула судьба на сторону. Женился не на той. Пришлось деньгу зашибать, дом ставить, быт обустраивать, чтобы не хуже, чем у других, чтобы полна чаша на зависть соседям…
И теперь что? Для чего? Куда? Зачем? Не вернуть прошлого.
Хороший отвар дала знахарка. Сразу в мозгах прояснилось. Высветилось все, до чего сам доглядеться не сумел за долгие годы. Как в зеркале отразился весь, как есть, целиком, без прикрас. Голая сущность застыла в ожидании приговора. Чистая, не прикрытая, увеличенная до полной очевидности, самая что ни на есть главная.
Слабо он ее любил, если бросил. Не хватило дураку терпения, настойчивости, силы. Возомнил себя первым парнем на деревне. Ходил, словно петух. Вихрастый, задористый. Любовался собственным портретом на журнальной обложке. Возгордился своей статью, вот и растратил себя на фантики. Думал – одумается, прибежит, в колени бухнется. Ошибся. Только сильнее узел стянул. Из сердца клин клином не вышибают. Не чурбан деревянный. Напрасно любовь в девке сгубил. Засох в сердце корень. Скукожилась душа и осталась одна бездушная партийная книжка, и он блудливой, прожорливый кобель. Ушли годы, как вода в песок. Почему на войне не погиб? Ради чего в лагерях выстоял? Зачем столько лет землю пахал? Для кого дом ставил? Куда годы ушли? Ни колхоза, ни детей, ни счастья. Лишь лес темный кругом, да волки по ночам воют.
Взъерошил старик остатки седых волос на голове, стукнул кулаком о березовый ствол. Кто в этом виноват?
Вот батька знал ради чего на земле жил. Мать рассказывала, вставал до зари, ложился затемно. Никто не заставлял. Работал, как вол. За всем следил, до всего докапывался. Каждый день счастливый ходил. Особенно, когда мамку встретил. Хозяйство, как на дрожжах росло. Знал мужик, для чего хлеб сеет. Было за что спину гнуть.
И у него изначально крестьянская душа за землю болела. Насмотрелся на европейские порядки. Увидел как наши неправильно хозяйство ведут. Захотел вступиться, да осадили. Как немца под конвоем увели. Не вреди колхозному делу. Молчи в тряпку. В райкоме знают что, где и когда сажать надо, и как с такими умниками поступать следует. Хлебнул горя в лагерях. Еле жив остался.
Эх, как бы изначально техническим способом дело на земле вести. Малым числом, да большим умением, как это у них там заведено. И почему мы не такие? И чем мы хуже?
Вздохнул дед печально, представил себе, какой замечательной могла бы сложиться жизнь, если бы не Они… Если бы не заклеймили его вредителем, не отлучили бы от земли, не вселили страх в сердце, не превратили крестьянскую душу в продажную пролетарскую совесть. Продолжил бы дело отца. Стал бы хозяином. Имел бы хозяйство, большую семью, крепкий дом… Если бы не Они какой хорошей женой смогла бы стать Надька… Но околдовал ее Великий искуситель, запорошил девичьи мозги Мировой революцией, вынул из нее женское сердце, вложил в грудь партийную книжку и дал страшную власть над людьми. А он спасовал перед Ними, не распутал заклятье, не снял с сердца печать, уступил грубой силе, отошел в сторону, стал показушным, да ленивым. Ни к чему стало трудиться. Не за что, да и земля чужая.
Так и разлучили их навеки, развели по разные стороны, отделили друг от дружки колючим забором, опутали нелепыми сказками о Светлом будущем, замешанном на человеческих костях. Только для кого оно строилось, не понятно. Не иначе как для мертвецов.
Может от того и рвется к Нему, что, наконец, хочет войти в Его Светлое царство свободы? Или Он настолько крепко припек к её своему сердцу, что даже после смерти не хочет отпускать? Знать, велика сила Его. Не даром Он в Москве погребен. Целым монументом над площадью вздыбился. Не соперник ему старик. При жизни не смог отбить, не сможет и после смерти? Нашла она себе Великого утешителя, срослась с Ним душой и телом. Так стоит ли их разлучать? Надо ли мучить сердце разлукою? Не по- человечески это будет. Не по совести. Плохо они поступили. Нельзя было ее тут хоронить. Без Него, без Отрады души, вопреки последней ее воле. Зря он Эльку послушал. Пошел у баб на поводу. Хотя не сильно тогда и противился. Но зато теперь понял. Только что уже сделаешь? Поздно. В могиле лежит и крест стоит. Да и как ее было отвезти? Совершенно невозможно. Захотел бы, да не смог. Силы на это нет.
Сидел дед Афанасий на бережку, думал тяжкую думу и не находил ответов на мучительные вопросы. Одно оставалось несомненным: просветление пришло слишком поздно, жизнь прошла зря, виноват в этом он, Надежда погребена не правильно, исправить ничего невозможно. Сам он медленно превратился в скотину, и единственное что осталось, так это утопиться. Незачем больше на свете жить: ни радости, ни интереса.
«Надюхи нет. Я, итить твою макушку, утоплюсь. Баба моя издохнет от горя, – подумал он, – Жако, итить твою макушку. Вся скотина Тоське достанется… И Надьку жалко. Мучается Надька. Надо бы ее все же туда снести. Только вот как? Одному никак. Федьку дождусь. Может он что придумает. Он головастый. С Федькой легче будет. Снесем, а там, итить твою макушку, и помереть можно. Будет, кому в гроб положить».
* * *
– Надо бы нам, дед, с тобой пару бревен на мосту бросить, – предложил участковый, когда понурый Афанасий вернулся вечером к дому, – Могли бы сегодня управиться, да ты где-то весь день прятался. Замучили меня бабы твои, сил нет. Домой хочу. Засиделся я у вас тут. А как перебраться? Я когда сюда шел, бревно подо мной подломилось. Еле на берег выплыл. Опять в холодную воду лезть не хочу. Была бы у вас лодка, другое дело. Так лодки нет. Пойдем, поутру, мост сделаем.
– Почему не сделать? Пойдем сделаем, – согласился старик.
«Хорошее дело, участковый задумал, – подумал дед, прихлебывая горячие щи на кухне, – Давно, итить твою макушку, пора мост сделать. Пенсии старухам получить. Хлеба свежего купить. Газеты почитать. Сидим тут, как отрезанные. Совсем одичали».
Утром дружно налегли на работу. Срубили вдвоем с Василием Михайловичем пару сосен в лесу, распилили по мерке, через гнилые опоры бросили, скобами железными связали. Худо-бедно навели переправу. Один мужик вполне пройти может.
– Итить твою макушку, – оценил результат дед, – Не пройдут бабы, узко. Надо бы третье бревно бросить.
– Да, – почесал в затылке Василий Михайлович, – узковато.
– Бревна, итить твою макушку, скользкие, – добавил Афанасий, – Навернутся задами в воду.
Сказано сделано. Трудно первые два положить. Третье само пошло. На четвертое уже сил не хватило. Итак хорошо получилось. Навели мост.
– Дорога подсохнет, скажу, чтобы досок привезли, – сказал участковый, – Доски набьем, на мотоцикле переезжать можно будет.
Удивил милиционер деда. Мало того, что трудился ладно, себя не жалел, за толстый конец бревна первым хватался, так еще и о людях подумал. Переменилось в нем что-то. Даже лицом посветлел. На человека похож стал. Приятно с таким работать. И не только потому, что он как нормальный мужик практически все сам делал: пилил, рубил, таскал, а главным образом от того, что спокойно с ним рядом находиться.
Весь день трудились. Еле управились.
Василий Михайлович умылся в реке после работы, пожал Афанасию руку, набросил на плечи шинель, и направился через мосток на другую сторону. На середине остановился, достал из кармана наручники, покачал их на широкой ладони, словно взвешивая, и выбросил в воду. На другой берег перешел, махнул старику рукой на прощанье, крикнул: «Не пей больше, дед, самогона», – и пошел одиноко в вечерней заре по пустынной дороге к дому.
* * *
С хорошим настроением вернулся домой дед. Взошел на высокое крыльцо, обозрел большое хозяйство, скинул пропитанный потом ватник и сказал жене:
– Завтра, итить твою макушку, в Селки пойду, на почту. Может письма от Федьки есть. Пенсию получу. Скажи бабам. Кому чего в магазине купить?
– Сам скажи, – ответила на ходу супруга, – У меня корова не доена, свинья не кормлена. Ноги то у самого есть, – и исчезла с ведром в хлеву.
Что с дурной бабой делать? Пошел дед сам.
– Тоська, – позвал Афанасий с улицы бывшую доярку, – Переправу наладили. Завтра в магазин пойду. Чего тебе, итить твою макушку, купить? – сказал, когда она на крыльцо вышла, одетая, словно на выход, в сапогах и теплой куртке.
– Хлеба, соли, спичек, сала, пряников и вина, – с ходу выпалила та, практически не задумываясь.
– Итить твою макушку, вина то зачем? – удивился старик.
– Самогонку свою сам пей, – ответила Анастасия Павловна, – Вина хочу. Самогонка ваша травленная.
– Вина, так вина, – согласился дед, – Тебе какого белого или красного?
– И белого и красного, – ответила колхозная пенсионерка, – Пряники с медовой начинкой.
– Ладно. С медовой, так с медовой. Пойду у Эльки спрошу.
– Купи ей книжку про Гитлера, – пошутила бывшая доярка
– Зачем про Гитлера?
– Ей про Ленина уже надоело, – усмехнулась Анастасия Павловна, – Сам-то чего не зайдешь? Чайку, может, выпьешь? – кокетливо улыбнулась, приоткрыв дверь в дом.
– Некогда мне, итить твою макушку. Вечер уже. В другой раз, – смутился старик, – Идти куда собралась? Приоделась. Вместе пойдем, или как?
– Я до Красной избы. Вещи у меня там остались. Может там и переночую, – загадочно улыбнулась Тоська, – На всю ночь. Одна. Скучно будет… одной-то…