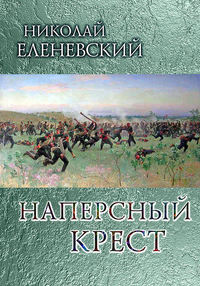Полная версия
Мытари и фарисеи
Смотревший в окно капитан вдруг громко спросил:
– А в рамы теперь кого?
– Да хотя бы тебя!
Тот же капитан улыбнулся:
– Да нет, я к тому, что уж очень рамы хорошие.
Из дальнего угла послышалось:
– За эти рамы когда-то Мандровского чуть было из партии не исключили. До госпиталя довели.
– А, помню, какому-то проверяющему из штаба округа не понравилось, что краска на железе потрескалась, так за ночь старые срезали, а новые сварили и забетонировали.
– Кажется, в семьдесят восьмом или девятом.
– Девятом, перед самым нашим входом в Афганистан.
– Да, на эти рамы с нас деньги собирали. Ох и ругался народ!
– Он и сейчас не очень-то тихий. Слышали или нет, в ТЭЧ собираются суд чести над партбилетом устроить. Секретарь их, майор Конюхов, сейчас у Дубяйко, не иначе об этом разговор, вот и нас собрали, – пожилой майор, из тех, которые, казалось, были вечно в одной должности и постоянно избирались партийными секретарями в своих подразделениях, вздохнув, добавил: – Начало положено.
– Чему начало, ты о чем?
– Да о том же, что сначала судят партбилет…
Вдруг как по команде все разговоры стихли и офицеры уставились на майора:
– Иваныч, это как же так?
– Сходи в ТЭЧ, тогда поймешь!
– Дуреем, братцы, дуреем. Сам-то как считаешь?
– Нормально, время дураков сменяется временем идиотов.
Открылась дверь кабинета Дубяйко, оттуда высунулась голова Баулова, известного в офицерских кругах своим умением произносить застольные речи и здравицы:
– Товарищи, заходите, заходите! И побыстрее, время не терпит! – и сделал широкий жест, как будто приглашал на очередное застолье.
Увидев меня, он удивился:
– Разве вас?..
– Да нет, я мимо! – успокоил я Баулова.
В полку на каждом углу разговоры о предстоящем суде над партбилетом. В ТЭЧ готовились к нему основательно. Вызванный в политотдел Парамыгин на все вопросы Дубяйко, что это будет за судилище, односложно отвечал:
– Не судилище, а суд. Ну, нечто вроде спектакля из разряда художественной самодеятельности.
– Какая самодеятельность!! Парамыгин, вы что, не знаете, чем у вас подчиненные занимаются? Что за самодеятельность? Или вы уже не считаете себя начальником ТЭЧ. Если хотите, могу этому поспособствовать.
– Я же вам сказал, товарищ подполковник, они в свободное от службы время. А если вам интересно, так сходите и у них спросите.
– Вот как пташечка запела?
– Так и запела, кошечки-то уже нет, – усмехнулся Парамыгин, – лучше пташечкой петь, чем волком выть.
– Это кто у нас волк? Да я вас!.. Вот такие, как вы, партию угробили, а теперь и армию собираетесь угробить?! Да я!..
– Да я, я!! – вскипел Парамыгин. – Если на то пошло, так кто кого гробил, время покажет.
Суду над партбилетом состояться было не суждено. Огромная страна разваливалась на глазах, а вместе с ней и армия полезла по швам, словно офицерская шинель, которую стали тянуть в разные стороны. Кто за что ухватился: кто за полы, кто за рукава, кто за ворот, думая, что из отдельных лоскутков сошьется нечто приличное. И теперь сосед отгораживался от соседа, словно тот был самым заклятым и при этом давним врагом.
Парамыгин при встречах негодовал:
– Вот так запросто патриотизм перестройки перерос в национализм правящей верхушки, хуже того, в мафиозный национализм.
– Откуда такого добра нахватался?
– Лунянин, только слепой не видит. С их подачи наш СэСэСэР превратили в общественный туалет для всех народов и наций, над которым вывесили красный флаг как сигнал кровяного поноса. Теперь стены нашего сортира украсят юмор и сатира…
– Как понять?
– Понимай, как хочешь, все вокруг такое… Юморнее не придумаешь. Покатилася торба…
И началось! Границы… Пограничные посты… Таможенные досмотры…
Народу стало не до юмора. Ездивший за дешевыми китайскими спортивными костюмами в приграничный кишлак, где базарная торговля разрасталась до невероятных размеров, Пухляк с обидою рассказывал, как перед мостом – а граница как раз проходила по реке – узбекские таможенники и пограничники облазили его машину всю снизу доверху. «Ты русский, у тебя деньги есть, будешь обратно ехать, уплатишь пошлину». – «Какую пошлину?» Смеются: «Какую назначим».
– И что?
– Уплатил, а куда денешься. Их там целая куча, и все рты раскрывают, как голодные галчата. Сказали, машину отберем!
– Так уж и машину?
Пухляк обиделся:
– Очень даже запросто. Съезди проверь.
Проверять никому не хотелось.
– Думаю, нас скоро попросят отсюда, – говорил я жене. Она с испугом и недоумением вопрошала:
– Как попросят? А кто же их защитит?
– Национальная гвардия.
– О да! Национальная гвардия будет плов с утра до ночи варить.
VIШтаб Среднеазиатского военного округа как-то быстро стал Министерством обороны Узбекистана со своим министром, замами и всем тем, что необходимо для такой категории руководства. Вчерашние майоры, подполковники, имевшие узбекскую родословную, в спешном порядке возводились в полковники, генералы. И без того строгая пропускная система в штаб взвилась в своем усердии до непостижимых высот секретности, как будто узбекской армии предстояло решать задачи мирового значения. Сейчас и немедленно!
Издававшаяся на русском языке военная газета заскулила, заплясала, не зная, к какому берегу плыть. Офицеры с самого утра собирались в угловом кабинете подполковника Попова, спорили до хрипоты, как надо выживать в такой ситуации, поближе к обеду кабинет запирался изнутри на ключ, на столе появлялась пара бутылок водки, к ним нечто вроде закуски, из той, что не доели вчера. Попов протирал исписанными-исчерканными листами неудавшейся статьи стаканы, сам же и разливал водку:
– Я звонил вертолетчикам, Лунянину, спрашивал, много ли русских остается…
– И что? – уже протягивая руку к стакану, вопрошал майор Кожухов, которого больше интересовало то, чем они занимались сейчас, а не то, что предвиделось пусть и в недалекой, но перспективе.
– Многие.
Попов когда-то написал о Лунянине большой очерк. Познакомились они в Кандагаре, куда Попов через знакомого офицера в штабе округа сделал себе командировку. «Когда-нибудь мне это зачтется, – говорил он, – такая отметка в личном деле факт значимый». Не прогадал. Начальник политотдела вертолетного полка подполковник Дубяйко, узнав о планах журналиста по написанию книги, сказал, что лучшей кандидатуры, чем Лунянин, ему не найти.
– Вы понимаете, политический отдел таких офицеров держит под особым вниманием, они – наша гордость, – Дубяйко сделал многозначительную, так любимую им паузу, – думаю, вы понимаете, о чем речь. Это молодой, талантливый и весьма перспективный офицер.
По распоряжению командира полка Лунянин усадил Попова в вертолет и сделал пару кругов над аэродромом, при этом на дальнем приводе лихо сымитировал атаку в пике, от чего Попова стошнило, и комок в горле долго не мог рассосаться даже тогда, когда газетчик уже стоял на земле. «Ну ты, старичок, и летаешь!!» – выдохнул он свое восхищение Лунянину. И впоследствии этот полет расписал как вылет на уничтожение душманской засады. Расписал в самых ярких тонах и красках, подчеркивая, что именно за такие вылеты и был награжден Лунянин боевыми орденами. Растиражированный в газетах и журналах, даже вошедший в сборник, очерк принес Попову так давно ожидаемую им славу мастера пера. Дубяйко отправил в политуправление об очерке свое резюме, в котором высоко оценил талант журналиста: «Он показал через службу боевого офицера ту огромную важность партийного влияния на решение задач, которые поставила партия перед воинами-интернационалистами».
Политуправление признало Попова лучшим журналистом года, вручило диплом и премию. О чем жалел Попов, так о том, что премия не имела лауреатского знака, он был бы на груди очень кстати среди юбилейных медалей.
Сборник стоял в кабинете Попова на книжной полке особняком, на видном месте. Для журналистов рангом пониже, особенно из «дивизионок», книга доставалась со словами: «Вот, старичок, моя очередная работа. Но это промежуточный этап, в принципе, материала уже на целую книгу», – и при этом довольно улыбался.
Услышав от Попова очередную новость, Кожухов, один из первых кандидатов на сокращение, обрадовался:
– Ну вот, я же говорил, что без русского языка армия никуда. На «культур-мультур» далеко не уедешь. Значит, не пропадем!
Он вкусно, неспешно выпил теплую водку и долго держал у носа кусочек лепешки, раздумывая, у кого бы из сидевших рядом одолжить денег. Посматривал на Попова, Черкашина, Безъюрова, прикидывал, оценивал. «Попову и Черкашину уже задолжал порядочную сумму, а вот к Безъюрову можно подкатиться». Деньги нужны были позарез. Вчера опять оставил в игральном автомате все, что утаил от жены, вечно шнырившей по карманам. В последнее время не везло. Почти полмесяца – и проигрыш за проигрышем. Ведь вначале, как только открыли игральный зал, установили там привезенные из Гонконга игральные автоматы разной масти и разного калибра, все складывалось благополучно. Он даже разработал свою систему, которую считал беспроигрышной. Теперь система давала сбои.
– Безъюров, как у тебя насчет капитала?
Попов с Черкашиным понимающе переглянулись.
– Если по Марксу, здесь полный кругляк, если по гонорару, так мелочишка осталась. Ты никак хочешь еще сбегать?
– Нет, у меня дело житейское, к тебе потом зайду, расскажу все по порядку и буду очень благодарен, если выручишь…
Раздобревший после выпитой водки Безъюров, всегда хранивший заначку в кабинете в толстом темно-синем томике «Капитала», махнул рукой:
– Заходи, как же без выручки, нынче я тебе, завтра ты мне.
Попов, зная о новых пристрастиях Кожухова, хохотнул:
– Завтра может и не быть, это уж точно по Марксу, – он взглянул на часы. – Допиваем – и брысь, у меня в номере материал, а я все кисну на первом абзаце.
Редактор на подобные застолья смотрел сквозь пальцы, мало веря в то, что какие-то предложения братьев по перу будут дельными и заслужат внимания. С месяц назад он забронировал за собой место в одном из центральных военных журналов и жил предстоящим отъездом в Москву. Его заместитель, плешивый подполковник Тишук, каждый день спешил в военное министерство в центре Ташкента, чтобы пропитаться атмосферой новых веяний, шнырял по редакциям узбекских газет, подыскивая там журналистов для газеты «иной формации», как он все чаще выражался на редакционных летучках.
– Начнем с того, что нам необходим вкладыш на узбекском языке, – убеждал он, – чем раньше, тем лучше! Иначе, если там замыслят свою газету, нам труба, полная труба!
Офицеры недовольно зудели по поводу тишуковских замыслов, зная, чем это пахнет для каждого из них. Редактор понимающе качал головой, соглашался с Тишуком, а тот доказывал:
– Будет вкладыш, сохраним газету, сохраним коллектив. Пояснять не буду.
Тишук уже просчитал свои действия на несколько ходов вперед, зная, что место редактора, на которое он никогда и не помышлял, для него, отнюдь не блестящего журналиста, теперь само плыло в руки.
– А там куда кривая выведет, – говорил он жене, – гражданских ведь надо обучать нашему ремеслу, военного журналиста ведь растить надо. В этом узбеки ни бельмеса, ни гу-гу. Столько гражданских газет объездил, и, представь себе, ни одного желающего. Понятно, наше ремесло непростое. Здесь мне и карты в руки. Буду искать среди военных, кто мало-мальски может грамотно писать по-узбекски. На первых порах обзаведемся переводчиками.
Жена доставала из холодильника и с радостной улыбкой наливала ему в крохотную рюмочку коньяк:
– Получишь полковника, и мы отсюда… – она мечтательно закатывала глаза, – полковники, они в любой армии полковники. Да и пенсия… Наш-то, – она имела в виду редактора, – уже московские сны видит. Смотришь, и нам чего-нибудь да перепадет. Он с тобой как?
– Я для него главная рабсила. Сны? Сны пускай видит, – Тишук отдавал пустую рюмку, сыпал в рот щепотку изюма, медленно прожевывал, – сейчас полковника получить – раз плюнуть. Вот закиснет кое-кто!
Под этим «кое-кто» он подразумевал тех, с кем когда-то вместе выходил на журналистскую дорогу. Многие из них, куда талантливее, так и остались сидеть редакторами дивизионных газет. В лучшем случае прорвались в армейские, а редактором-полковником он из своего выпуска будет первым. Будет! Не Попов, который еще в курсантские годы смеялся с его заметок, а он, Тишук. Кто такой Попов? Бегает, заискивает… Понимает, что ему ничего не светит. Говорил же, сделай к сборнику предисловие от полковника Иванникова – не сделал. Иванников? Иванников уже генерал. Хорошо, что не уговорил, самому теперь хуже было бы.
– Попов нам дорогу не перебежит? – словно читала его мысли жена.
– Кто, писатель? Вот пусть и «писяет». Приезжают дружки, попьют с ним водочки и обратно, «писюки» несчастные, тьфу! – Тишук самодовольно распрямлял плечи, словно на них уже лежали долгожданные полковничьи погоны. – Нинуль, капни еще малость. – И держал наготове щепотку изюма.
На рынке, разливая кумыс, продавец деловито поправлял съезжавшую на тугой затылок тюбетейку и улыбался:
– Вот теперь у нас своя армия… Когда есть своя армия, мой сын будет в ней служить и станет большим начальником. Русские нам теперь не нужны!
Его крепкие руки привычно гоняли по доскам бурдюк и все так же ловко разливали в пиалушки хмельной напиток.
VIIБывшие советские генералы один за другим отбывали в Москву, где Министерство Вооруженных Сил СССР уже понизило себя в должности до уровня рядового министерства Российской Федерации и превратилось в рассылочно-пересылочную базу для хлынувших в Россию генералов и офицеров. Воинские части, расположенные на территории Узбекистана, начали переходить под новые знамена.
На утреннем построении Гаврилов зачитал приказ о том, что их отдельный гвардейский вертолетный полк включен в состав военно-воздушных сил другого государства.
– Всем офицерам написать рапорта о своем желании продолжать службу в Узбекистане, это для переоформления личных дел. Если кто-то не желает, определяйтесь самостоятельно, но учтите: полк переходит на новое финансирование, кто замешкается с рапортом, может оказаться без денег.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – и офицеры судачили, чертыхались, собираясь в курилке, главном информационном центре, как ее окрестил Парамыгин, деловито наполняли окурками зеленую урну, стараясь побольше узнать о том, есть ли возможность перебраться на родину, а если таковой нет, то хотя бы поближе к родным местам. Капитан Лобановский ехидничал:
– Господа офицеры, будут сборы недолги на Кубань да за Волгу?!
– Пора бросать клич: «Ищу родину!»
– Только не заплутать бы.
Без умолку трещали телефоны, куда-то отбивались телеграммы, писались письма к тем, кто имел хоть какой-то вес там, наверху, может, он протиснет в потоке просьб словечко за геройского майора или подполковника. Украинцы постоянно кучковались около командира второй эскадрильи подполковника Непийводы. Он уже несколько раз слетал в Киев и каждый раз возвращался с ворохом самых неожиданных новостей, но вполне обнадеживающих: «Хлопцы, ненько-Украина за нас, она никому пропасты не даст. А цэ, хто тут шось дюдюкае, господа пасынки, и тильки всего». И каждый раз все больше и больше разговаривал на украинском языке, чем немало удивлял Гаврилова, который после такого разговора с Непийводою тыкал пальцем в Громова:
– Скажи, а ты можешь вот так, как Непийвода, или просто распинаешься, что белорус! Ну-ка, дай нам что-нибудь эдакое «здоровэньки булы», покажи летный класс!
Громов отмахивался, но Гаврилов не отставал:
– Ну, скомандуй: «Равняйсь, смирно!» или, скажем: «Стройся!» Не знаешь? Значит, тебе верная дорога в запас. Будешь минские улицы подметать, не ухмыляйся, брат, будешь, да еще как! Когда-то хрущевское сокращение заставило моего отца работу искать. И что, начал дворником, а затем вырос до начальника ЖЭСа. Кстати, тоже начальником штаба полка был, вот-вот! А Непийвода хоть завтра готов крикнуть: «Струнко!!»
– Лучше минские, чем чирчикские, – огрызался Громов.
Забежавший ко мне в штаб эскадрильи Парамыгин хохотал:
– Слышал, Гаврилов тренирует Громова перед отправкой на родину. Что ж, тогда и метлу ему в руки!!! Меня больше волнует, куда настоящая гвардия нацелилась? Не секретишь планы?
– Гвардия еще не определилась.
– И чего так?
– Да так, Минск молчит, Москва не чешется.
– Тогда сам кричи и чешись, а то правда, как Непийвода сказал, будешь ходить в вечных пасынках.
– А мы не шелудивые, чтобы чесаться.
– Ну-ну, какая же гвардия, да без гордости! – подтрунивал Парамыгин.
Сам же он никуда не собирался, не торопился, ни перед кем, к всеобщему удивлению, не заискивал и не юлил:
– У меня, кроме этого полка, ничего нет. Если что, так место рядом с Ерохиным всегда найдется. Ведь от моей большой родины даже пыли не осталось, а здесь за столько лет родни куда больше, чем там, где когда-то родился.
Вечером позвонили из Ташкента, сказали, что завтра меня в срочном порядке приглашает генерал Плешков. Слово «приглашает» в армейском лексиконе было абсолютно новым.
– А ты говорил, что забыли, – обрадовалась жена. У нее молчание официального Минска на мой рапорт о переводе в какую-нибудь из вертолетных частей на любую должность родило до этого неведомую ей апатию, что меня крайне расстраивало. Теперь вот родилась надежда на какое-то будущее, и она сразу воспрянула духом.
Штаб военно-воздушных сил округа размещался в центре того Ташкента, который устоял под напором землетрясения. Уютный военный городок примостился под боком у корпусов огромного самолетостроительного завода, отделенного высокой кирпичной стеной. Городок меня всегда очаровывал плотной зеленью высоченных деревьев и журчанием арыков. В любую спеку здесь было прохладно. Сразу за общим контрольно-пропускным пунктом, уже который месяц пустовавшим, стояло низенькое зданьице фотографии, где Файзула делал снимки на все виды документов, а заодно предлагал сфотографироваться в национальной узбекской одежде. Желающего сразу же переодевали в длинный полосатый халат, перевязывали поясом и на голову водружали огромную белоснежную чалму. Этим создавалось документальное подтверждение, что ты побывал в Ташкенте. Располневший, добродушный, с короткой седой бородкой, подчеркивавшей его особую обаятельность, после съемок Файзула прижимал руку к груди:
– Брат, даже если ты здесь в командировке, не волнуйся, снимки вышлем туда, куда скажешь. Вот бумага, пиши адрес.
И высылал. Когда Файзула обосновался здесь со своей, а точнее, с быткомбинатовской фотографией, не помнили даже старожилы городка.
– Мой отец здесь работал, – и Файзула каждому новому посетителю указывал на широкую полку, – видишь, брат, здесь все его аппараты. Таких сейчас нигде не найдешь. Даже американский есть.
Какой из них был американским, он не уточнял. Любопытному пояснял: «Зачем тебе этим голову забивать, брат. Если я сказал, есть, значит, есть».
Никто на Файзулу не обижался, он никого ни разу не подвел и не обманул ни на копейку. Снимки делал преотличные. «Смотри, брат, мне даже генералы позировали!» – это было его лучшим аргументом по поводу качества. С началом перестройки Файзула приватизировал фотографию вместе с двумя огромными клумбами: одна перед фотографией, другая позади нее. Эти клумбы были главной визитной карточкой всего военного городка авиаторов, как его еще называли в Ташкенте. Они радовали своей ухоженностью и обилием цветов с ранней весны до поздней осени. «Это не я, это все мой брат. Любит он такое дело», – не прельщался на чужую славу Файзула. Теперь на месте той клумбы, что находилась позади здания, шли строительные работы. Гудел кран, крутилась бетономешалка, деловито сновали строители. «Не иначе Файзула расширяется. Ох и ловок!» – выразил я невольное восхищение уважаемому мастеру.
Городок по сравнению с тем, каким я видел его несколько месяцев назад, основательно опустел. Полгода назад на его улочках было не разминуться от прогуливавшихся с колясками молодых женщин и пожилых супружеских пар, спешившей в школу или в плавательный бассейн детворы. Во время полуденного зноя его тенистые аллеи укрывали всех и вся, и после жарких городских площадей эта прохлада ощущалась особенно. По пути к штабу всегда можно было с кем-то повстречаться, поздороваться, сейчас я прошел, не встретив ни одного знакомого. Только перед внутренним КПП, за которым виднелись здания штаба, один из офицеров обрадованно крикнул:
– Ба, кого я вижу, а мне говорят, что давно уже где-то под Ленинградом или Минском. – Подполковник Саханчук из отдела боевой подготовки, говорливый, сноровистый офицер, которого знали во всех авиационных гарнизонах, крепко обнял меня, словно мы с ним только что уцелели после жуткой передряги. Саханчук был из офицеров, разрешавших себе в любую жару опрокинуть стакан спирта, и, как он сам говорил, «ни в одном глазу, потому как имею авиационный организм», но славился не этим, а тем, что отменно летал и крепко уважал рядовых летчиков. «За моей подписью судьба», – резюмировал он и выводил эту подпись в любом документе лишь тогда, когда во всем лично убеждался, зная, что не навредит. Офицеры шутили:
– Мы ему памятник поставим.
– Со «Стакан Стаканычем» или без? – вопрошал у шутников Саханчук.
– Без!!
– Тогда можно! И на самой высокой горе!!
Саханчук покрутил растопыренной ладонью:
– Сам видишь, разлетается народ, куда глаза глядят. А ты к нам или к ним? – он кивнул куда-то в сторону.
Распространяться на эту тему мне особо не хотелось:
– Плешков вызвал.
– Значит, к ним, теперь он там всем заправляет. Говорят, переругался с Москвой и остался без кислорода. Хотя на кислородном голодании сейчас, наверное, каждый второй из нас. Сам-то что решил?
– Да пока не определился. Может, что и прояснится в беседе с Плешковым.
– Как бы еще сильнее тумана не напустил, – хмыкнул Саханчук, – в случае чего забегай, мой кабинет в бывшем штабе тыла на первом этаже, найдешь. Кстати, есть наметки, хотя… – он недоговорил, – ты заходи, помни, я за тебя всегда буду горой.
– Постараюсь.
Авиационный штаб с развалом Союза также располовинился. В одних зданиях теперь размещался штаб авиации Узбекистана, в других – штаб тех частей, которые еще оставались под российским командованием.
Генерала Плешкова в кабинете не оказалось, и помощник дежурного с мятыми погонами капитана, потный и какой-то сонный, посмотрев на мое офицерское удостоверение, сказал, что его срочно вызвали в новое Министерство обороны.
– Товарищ подполковник, вы подождите, генерал обещал, что через час вернется. Здесь к нему еще несколько посетителей, – и он кивнул на сидевших в отдалении офицеров.
Но прошел час-другой ожидания, а генерал не появлялся.
– Если что, будь другом, пришли посыльного к Саханчуку, я у него, – предупредил я капитана, слабо веря в то, что мою просьбу кто-то исполнит.
– У русских, что ли? – круглолицый помощник дежурного рассмеялся.
– У русских, у русских, товарищ бывший советский, – подтвердил я догадку, и мы оба беспричинно и дружно захохотали: он по ту сторону толстого стеклянного барьера, я по эту. Ожидавшие Плешкова офицеры переглянулись.
Саханчук при моем появлении обрадованно спрятал в стол кучу бумаг: «Надоела эта канитель! Ты обедал? Нет? Тогда на плов!» – и мы по старой привычке вместо гарнизонной столовой, которая все так же исправно открывала двери перед посетителями из обоих штабов, объединяла их за общими столиками, пошли в жилую зону. Там, за гарнизонным офицерским клубом, в тени огромного тутовника обосновался торговец пловом. Все так же стоял на своей площадке на железной треноге громадный казан, закопченный, аппетитно пахнувший, обставленный от шаловливого ветра листами железа, где в расщелинах еще плескался огонь, доедая остатки мелко нарубленного саксаула. С него уже была снята широченная крышка, и к многочисленным запахам потного, слегка пыльного, душного города добавился аромат отменного плова. Он витал, парил в воздухе, тек по закоулкам вокруг клуба и не просто разбавлял все предыдущие, а затмевал их.
К казану вилась очередь. Но недлинная. Саханчук облегченно вздохнул:
– Успели, а то пришлось бы париться. Давай ты за пловом, а я стану за чаем.
К плову здесь всегда заваривали отменный зеленый чай.
Раньше каждый отдел штаба высылал сюда офицера, чтобы он занял место, потому как очереди выстраивались такие, что у опоздавших не оставалось никаких шансов пообедать. Особенно, когда в них вставали с кастрюльками разных размеров местные домохозяйки. Зная возможности своего казана, повар деловито вытирал руки о белый фартук, снимал с желтой горы риса и выкладывал на разделочный стол духмяное, исходившее паром мясо, ловко нарезал на мелкие кусочки. Из-под быстро мелькавшего длинного ножа они выходили абсолютно одинаковые, и громко повторял: