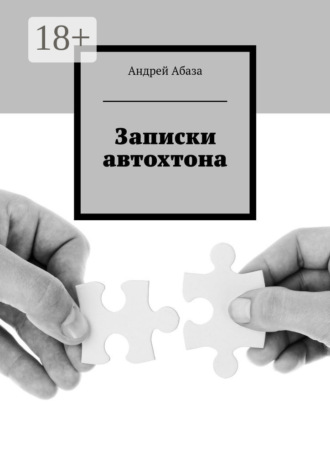
Полная версия
Записки автохтона

Записки автохтона
Андрей Абаза
Васе и Шуре с надеждой на встречу…
Мы не викинги, и нечего выпячивать челюсть.
Мы азиаты и здесь живём. Терпение, терпение и терпение…
Олег Куваев. «Территория»© Андрей Абаза, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Видный, даже крупный, писатель – универсал Дмитрий Львович Быков сочинил роман «ЖД», который всем настоятельно рекомендую прочесть.
Перипетии сюжета узнаете сами, если захотите. В присущей автору манере, с юмором, гонором и аллюзиями, Быков описывает историю России, как вечную борьбу «варягов» с «хазарами», двух «прогрессорских» организаций, конструирующих своё будущее на территории, заселённой «туземцами». «Туземцы» ничего не умеют, ничего не хотят и ничему не сопротивляются.
В финале «варяг» – офицер встречается с душевной, юной «хазаркой» и, взявшись за руки, идут они под девизом «Долг и милосердие» в загадочную «…деревню Жадруново, где их ждало неизвестно что».
Я как раз из числа «туземцев», но коннотация термина мне не нравится. Синоним термина «туземец» – «абориген» – слишком затёрт колонизаторами всех времён и народов.
Я – автохтон. Привет из Жадруново.
Часть 1
«Белое вино с чёрным хлебом…»
«Где я?», «Кто я?», «Зачем я?» – вот те вопросы, которые мучили молодого человека с утра, с очень раннего утра. Он проснулся (или очнулся?) в совершенно незнакомом месте, причём непонятностей море: в форме (погон натёр щёку), но без портупеи с кобурой; лежит, но на шконке, без белья; потолок над ним бел, но без лампы с абажуром. Кстати, насколько рано – «Командирские» на месте – 4—47, ну, значит, утро. Ибо днём поспать не дадут.
Точно, утро, 23 июня 1984 года, потому что вчера, нет позавчера, было 21.06.1984 и замполит на разводе караулов… Караулы, караулы, караул, люди добрые, он же вчера был в карауле, начальником караула, все с оружием, 22 человека, на каждого АКМ +60 патронов, а у него был пистолет ПМ с 16 патронами (две обоймы по 8 штук) … Был.. Был, да сплыл. Нет, не сплыл! Молодой человек окончил университет в Нижнем Новгороде (5-й город СССР по численности и 1-й по красоте (красоте девушек, естественно) и был знаком с логикой (1 семестр).
Он всё сдал вечером 22 июня 1984 года, сдал и не забыл, кому сдал! Вспомнил, всё вспомнил! Он Сорокин Андрей Леонидович, гвардии старший лейтенант, командир второго взвода третьей роты первого батальона Второго Отдельного Особого Тяжёлого танкового полка прорыва (в/ч №… – военная тайна).
Хорошо, и куда же он прорвался? И зачем? Так, караул устал, сдали оружие, пересчитали патроны, тоже сдали поштучно, солдаты в казарму, а старший лейтенант? В «Столбы», кабак, главный кабак в городе Дзержинске, столице советских химиков (или советской химии?). Уже яснее, из «Столбов» путей отхода немного и все известны.
Можно налево, девушки («девушки» в «Столбах»? ) любят военных и часто дарят им любовь просто так, за удаль. Нет, непохоже, рядом никого и нет признаков кого-нибудь из женского рода поблизости. Окружающая действительность не женственна по определению: стены белые, оштукатуренные, в извёстке без обоев.
Можно отступить направо – пьянство с мордобоем в сугубо мужской кампании (но бывает и из-за женщин). Нет, всё цело, форма не порвана, скулы не болят. И место пробуждения плохое – никого не слышно, тихо и пиво не льётся.
Похоже, пошёл напрямик. Прямо в вестибюле ресторана на первом этаже (после 300 граммов водки) закрытая дверь, которую просто необходимо открыть, ибо туда спряталась фея чистой красоты, от танцев отказалась, водку не пила и убежала за ту дверь…. Ясно, нет таких крепостей, которые не могут взять большевики.. Он не большевик, даже не член этой партии, которой нет с 1952 года, но он жаждет взять эту крепость, пробивается с боями (дверь вдребезги) и нарывается на… на полковника (бывшего подполковника) Бурцева. Всё, теперь определённо всё, и ясно – понятно. Точно. Бурцеву старший лейтенант был хорошо знаком с плохой стороны, не далее как две недели назад он (ст. лейтенант) на полковом разводе уже был уличён в нетрезвости, признался в распитии 1 (одной) бутылки чудного вина «Тамянка» с неизвестными особами. «Тамянка» не беда (тем более, что было 2 бутылки «Старорусской» и особа одна).
Беда в том, что подполковник Бурцев стал полковником, сдал полк и уже обмывал (именно в отдельном кабинете «Столбов») назначение на должность заместителя командира 60-й танковой дивизии. Пьяный и буйный лейтенант (пока ещё старший) резко выделялся на фоне степенных майоров с жёнами и выше… И был вызван патруль, и был задержан патрулём, и было определено по грехам его – 5 суток ареста. Точно, он на «губе», счастье – то какое!
Во-первых, выспится. Офицеров не будят (да их и не бывает). На гарнизонной гауптвахте несколько камер для рядовых, 3 для сержантов и старшин и 0 для офицеров. Наш герой был заперт в медицинском изоляторе один. «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков…»
Во-вторых, сэкономит. Арестантов страна кормит, а у старшего лейтенанта деньги отсутствуют (на ощупь), похоже, закончились именно вчера и именно в «Столбах». До получки почти месяц («Мы танкисты, 16-го получка», зампотех вдалбливал механикам «Масло трансмиссионное, вязкость 16 сантистокс с присадками, МТ-16П, усвоили, калмыки?» Калмыки не усвоили потому, что были казахи, а лейтенант Сорокин на всю жизнь запомнил), где деньги, Зин? Так, 260 рублей минус подоходный, бездетность и 3% комсомольских взносов должно быть 206 рублей 80 копеек, он их и получил 15 июня, прошла неделя, «через день – на ремень» в караул, там тратить некуда, один средний заход в «Столбы» максимум 10 рублей… Ффу – пронесло, вспомнил – дал в долг соседу Мишке Чикину 150 рублей на неделю. Ладно, деньги нашлись, хотя не все…
В-третьих, подумает о жизни. Пора подумать о жизни и прекратить пить «белое винцо с чёрным хлебом», как называл этот захватывающий воображение процесс золотой парень Лёха Васильев, старший прапорщик, ротный старший механик – водитель, семейный, положительный и толковый.
«Хуже самого последнего узбека…»
О чём думать человеку, выбравшему путь советского офицера? Не о чём и незачем ему думать, всё известно заранее и надолго: служи по Уставу, завоюешь честь и славу. 2 года – взводный, 3 года – ротный, до 30 лет надо пробиться в Академию, иначе карьера закончится комбатом, майор (подполковник) максимум, отец солдатам. А хочется быть в папахе и в «штанах с лампасами» – генерал!
Комбат – самая главная должность в армии, но и самая хлопотная. 500 рыл в подчинении у командира мотострелкового батальона, да 15 офицеров, да 10 прапорщиков, голова кругом. «Чёрные погоны, багровые лица, пехота Мурдида идёт опохмелиться…». Мурдид – фамилия подполковника, командира мотострелкового батальона 14 гвардейского танкового полка. Там начал службу лейтенант Сорокин, но недолго музыка играла.
В семье Сорокиных, как и в миллионах других советских семей, не боялись службы в Советской Армии. Все служили в свой черёд, отец был тяжело ранен в Будапеште в 1956 году, двоюродный брат легко – на границе с Китаем в 1969, одноклассник погиб «застреленный под городом Гератом». Армия как неизбежность, «мужик неслуживый, как баба нерожалая». Оба деда лейтенанта погибли в Великую войну, один в 1941, другой – Андрей – в 1942 году. Лейтенант был крещёным бабушкой в младенчестве атеистом, твёрдо знал, что смерть на войне – прямой путь в Царствие Небесное. Смерть он видел, хоронил бабушку (другую), дядю и соседа, разбившегося на мотоцикле, и он её никогда не боялся (и сейчас не боится).
Средний брат служил в Германии, связист, гвардии старший сержант. Младший брат – в Иркутске, войска ПВО, младший сержант. Лучший друг – гвардии ефрейтор, пулемётчик, Псковская дивизия ВДВ. Хороший парень Сорокин после школы пытался поступить на истфак МГУ, не прошёл, естественно, по конкурсу (12 человек на место), не без зависти поглядел на прошедших по конкурсу (например, Гагарину Е. Ю., ныне директора музеев Кремля) и 1 сентября начал работать токарем на Заводе в родном городке.
Работа хорошая, простая, токарь-операционник в бригаде. Тогда не платили аванс и не вычитали налоги за первый месяц работы, 10 октября 1976 года он принёс домой 226 рублей, мать заплакала, зарплата у учителя начальных классов была строго 95 рублей на руки в месяц. Отец хмыкнул и отправил в магазин за водкой (4 рубля 12 копеек +22 копейки пачка папирос «Беломорканал»). Сорокин Андрей выпил на свои с отцом, закусил с матерью и закурил открыто – начал взрослую жизнь.
В январе его направили на курсы подготовки водителей от военкомата, права он получал в июне и весной провожал друзей в армию, проводы с песнями, плясками, слезами и водкой шли каждый день на железнодорожном вокзале. Прошёл апрель, май, в июне призыв закончился, Сорокин получил права категории «С» и повестку на 15 сентября. Отец был прав и мудр, в июне Сорокин пересдал на легковушку (категория «Б»), взял отпуск и уехал в Нижний Новгород поступать на истфил университета. Получил те же оценки, как в Москве: 5 по истории и сочинению, 4 по английскому и литературе и ожидаемо для всех и неожиданно для себя был принят на первый курс историко-филологического факультета университета имени Н. И. Лобачевского.
Таким образом, армия обманулась в своих ожиданиях, студент Сорокин изучал военное дело на военной кафедре, выпускался лейтенантом запаса и должен был ехать по распределению учителем в школу куда-нибудь подальше от цивилизации, поближе к земле, на северо – восток необъятной нашей родины. Но цепные псы империализма посягнули на завоевания Апрельской революции нашего дорогого соседа – братского Афганистана.
«Ограниченный контингент советских войск в Афганистане» стал полигоном для обстреливания молодых кадровых офицеров («Зажирелись, войны не видели, пусть хоть тут пороха понюхают» – якобы сказал лучший друг советской молодёжи Маршал Устинов Д. Ф., Министр Обороны СССР). Выпускники военных училищ, бравые, спортивные и весёлые лейтенанты поехали тренировать обоняние «за речку», а лямку ваньки – взводного пришлось тянуть всяким бывшим студентам, вялым, очкастым и весёлым, хотя совсем по другому поводу.
Среди этих «двухгодичников – двухгадюшников» внезапно оказался и наш герой. К несчастью, он был бодр духом, крепок телом и очков не носил, что сильно повлияло на всю его военную карьеру. Вначале они вшестером добрались до Москвы, нашли штаб Московского военного округа, где весь день их гоняли из кабинета в кабинет, бдительно настораживаясь от внешнего вида этой группы: волосатые, в джинсах и с похмелья (проводы в армию, конечно, состоялись и удались). Потенциальные лейтенанты в штатском нашли курилку и задержались в ней. Судьба их там и решилась.
Подполковник (случайный курильщик) вывел группу в коридор, поставил к стене, скомандовал «Равняйсь! Смирно!». «Из деревни кто?» – вопрос озадачил. Ближе всех к деревне был как раз Сорокин, живший в небольшом райцентре, но он своим городом гордился и деревней его не считал. Убедившись, что деревенских нет, подполковник махнул рукой и сказал: «Первые трое – за мной, шагом марш». Сорокин был четвёртым, а третьим был его лучший друг, одногруппник Вася Фадеев, горожанин в пятом поколении. Через 20 минут троицу вынесло обратно, лица на них не было – их направили в кавалерию (последний кавалерийский полк страны называли «киношным», Васе очень повезло – ближнее Подмосковье, командировки, разъезды, съёмки в киноэпопее «Первая Конная» и множество красивых женщин вокруг – но он этого ещё не знал).
После такого тройка пока ещё оставшихся в живых готовились к самому худшему – и оно наступило – к вечеру другой подполковник, ни о чём не спрашивая, вынес в коридор и раздал направления ОБРАТНО в Нижний Новгород, в штаб 60-й танковой дивизии, располагавшейся тогда на окраине города. Сорокин следующим утром с позором вернулся в родное общежитие, из которого позавчера навсегда уходил «на фронт». Общага была на месте, но перестала быть родной – вернулись первокурсники с картошки и выпускник стал совсем чужим, места для него не нашлось. Переночевать матёрому парню всегда есть где, но именно позавчера, на пороге новой жизни, Сорокин порвал с прошлым, сжёг мосты и обрубил концы вместе с хвостами.
Именно поэтому после обеда он уже стоял у дверей строевой части штаба, получил бумагу, выяснил, что теперь он – командир 1 взвода 1 мотострелковой роты мотострелкового батальона 14 гвардейского танкового полка, в канцелярии батальона он ночевал 4 дня. Получил форму, встал на довольствие, подержал в руках своё оружие – ПМ (получил на складе и сдал в оружейку), был представлен комбату (подполковник Мурдид), его ротный был в отпуске, личный состав на полигоне (состава оказалось 9 человек, батальон был «кастрированным – кадрированным» и укладываясь спать на диване в штабе батальона услышал через фанерную заборку приговор комбата: «Нагнали двухгадюшников – тупее самого последнего узбека!»
«Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся…»
«Нечего ссать, бойцы, танк сделан гореть, а не тонуть» – на этой оптимистической ноте комбат – 1 майор Кочкин закончил инструктаж личного состава вверенного ему танкового батальона перед учебными занятиями на тему «Преодоление водной преграды по дну своим ходом». Дело происходило летом 1983 года на дивизионном учебном полигоне, 11 танков Т-62 (10 ротных и машина комбата) располагались в линии, а перед небольшим (70* 150 метров) озером выстроился поэкипажно личный состав 3-й роты. На правом фланге – экипаж командира роты во главе со старшим лейтенантом Кирпичёвым, далее – командир первого взвода лейтенант Усманов, затем два экипажа первого взвода, затем командир второго взвода лейтенант Сорокин + ещё два экипажа. На левом фланге три экипажа третьего взвода под командованием лейтенант Чигина.
Танк весит 40 тонн и обязательно утонет в любой луже глубже 2 метров, но не потеряет сцепления с относительно твёрдой поверхностью. Этим свойством решили воспользоваться наиболее безжалостные умы МО СССР. Была придумана система воздухозабора (труба диаметром 60см и длиной 4 метра крепилась на люке заряжающего), изоляции двигателя и частичной герметизации боевого отделения. Экипаж за прибрежными кустами производил лихорадочные манипуляции с техникой, закрывал люки по боевому и начинал молиться всем богам, чтобы механик водитель не отклонился от указателя гирополукомпаса (прибор настраивался на ориентир на другом берегу), а двигатель не успел перегреться. Танк входил в воду, как кувалда, все триплексы сразу темнели, изоляция, и правда, была частичной, вода струилась сверху и заливала командира, наводчика и заряжающего, которые крепко сжимали сумки с ИПС (изолирующий противогаз спасательный – мини-акваланг армейского дизайна: сплошная резиновая маска, соединённая с баллончиком для воздуха запасом на 10 минут). Если танк не сможет преодолеть водный барьер и остановится под водой из-за перегрева двигателя (он изолирован, лишён охлаждения и танк может проехать в таком режиме максимум километр) – нужно триплексы выдернуть, дождаться полного затопления машины, уравновесить давление и открыть командирский люк, через который организованно покинуть машину, т.е. всплыть, если сможешь.
Что интересно, расчётное время преодоления водной преграды шириной 70 метров при скорости 10 км/час составляет 25 секунд, но длятся они всю жизнь, которая и промелькнула перед внутренним взором Сорокина, пока не посветлело в перископах и танк не выбрался на другой берег. Вода с танка стекала, как с бегемота, счастливые танкисты выскочили мокрые, как мыши не столько от воды, сколько от пота – подводное приключение на танке пробивало гораздо сильнее, чем любая сауна.
Что ещё интереснее, Сорокина готовили на специальность «командир мотострелкового взвода», он три месяца после защиты диплома провёл на сборах, жил в палатках посреди леса, стрелял из АКМ, принял присягу, водил БТР-60ПБ и даже преодолевал на нём славную речку Клязьму поперёк – и зачем? Как, зачем и почему он вдруг стал танкистом?
Подполковнику Мурдиду не пришлось убедиться в неправоте своих опасений в отношении «двухгадюшника» Сорокина – Сорокин убыл на прохождение курсов молодых офицеров. Видимо, Мурдид не был одинок, стон отцов-командиров дошёл до командования Московского военного округа и оно (командование) организовало учебные сборы бывших студентов, ныне лейтенантов на главном полигоне округа. Это было лучшие 1,5 месяца службы всех «двухгадюшников», но они опять про это не догадались.
Самое главное – не было личного состава в подчинении, а зарплату платили согласно штатному расписанию – 250 рублей минус налоги. Занятия – 6 часов в день, 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные.
Никогда больше Сорокин не получал так много столь малыми усилиями. Кормили хорошо в офицерской столовой, кабинеты тёплые, за окном прошёл ноябрь, половина декабря, состоялось знакомство с товарищами по службе, сложились компании, образовались группы по 4 человека – и начался офицерский преферанс! Вначале играли вечером, в свободное время, затем страсти накалились, играть стали ночами, до утра, утром до занятий, в перерывах, а потом и вместо занятий. Сорокин правила знал, но опыта не имел, а великая игра познаётся только на практике. Практики было достаточно, первый месяц Сорокин проиграл 57 рублей (копейка за вист в «сочинку»), а в декабре выиграл 42 рубля 70 копеек. Подсчёты велись лично, скрупулёзно, но тайно. В среде советских офицеров аккуратность трат, сдержанность порывов и экономия денег нисколько не приветствовались.
Никто из преподавателей не призывал пить, гулять и веселиться, но сама атмосфера полуказармы, слухи об афганских подвигах, славе и героической гибели, лёгкий выпивон, гитара, полузнания, мечтания, надежды, тревоги и вымыслы сильно изменили приоритеты нечаянных защитников Отечества. «Гусары на цветах не экономят и за любовь денег не берут», «Бутылка красного вина – жена драгуна, он породнился с нею раз и навсегда, с такими жёнами не одолеть врагу нас, с такими жёнами нам горе – не беда!», «Поручик, оставьте бутыль с самогоном, ведь Вы не найдёте отрады в вине, быть может командовать Вам эскадроном, а как же, поручик, ведь мы на войне. И Вы, капитан, не тянитесь к бутылке, юнцам подавая ненужный пример. Мы знаем, что Ваши родные в Бутырке, но Вы же не мальчик, Вы штаб-офицер»… – Историк Сорокин лично убедился, что исторические факты ничего не значат против исторических мифов. Лично он вернулся в часть почти монархистом, уже понимая великую правду настоящего офицера: «Слуга царю, отец солдатам».
Жаль только, что это была другая часть. В начале декабря курсы инспектировал невзрачный генерал-майор в потёртой шинели, целый день ходил по кабинетам, крутил головой и вздыхал. Из вздохов сложилась загадочная фраза: «в танке очкарикам не место..». «Очкарики» – выпускники МИСиСа, почти все типично московские студенты – высокие, сутулые, в очках – на военной кафедре получили специальность «Командир танкового взвода» и уже почти начали забираться в танки без повреждений себя и имущества.
Через неделю поступило распоряжение начальника управления кадров МВО генерал-майора Волкова – «Командиров танковых взводов с дефектами зрения перевести в мотострелки, а на их место назначить командиров мотострелковых взводов без дефектов зрения». Вспомнил, вспомнил тогда Сорокин призывную медкомиссию в 10 классе.
В здании райвоенкомата – медосмотр будущих призывников, более 300 парней в трусах и майках в коридорах военкомата переходят из кабинета в кабинет, от врача к врачу. Стандартное – «Годен без ограничений», иногда – «Здоров». Сорокин течение потока затормозил в кабинете стоматолога. «Интересно, да Вы, батенька, фенОмен, прикус неправильный, нижняя челюсть длиннее верхней, отмечу, отмечу…» – озадачил врач. Последняя инстанция – начальник медкомиссии военный врач в звании капитана. Капитан немолод, нездоров, нетрезв и ему всё это неинтересно, этого мяса он видел уже не одну дивизию, подписывает заключение автоматически, симулянтов в провинции не бывает.
Сорокин вежливо кашлянул и обратил внимание военврача на заметки стоматолога. Капитан тяжело поднял голову, подробно разглядел симулянта и медленно, с расстановкой сказал: «Жаль, жаль, что у нас расформировали кавалерию, тебя, уклониста, я бы точно туда определил …… ЛОШАДЬЮ!!! Здоров, мля, послужишь!».
Физически здоровый Сорокин стал танкистом, а на его место пришёл «танкист» – москвич, что точно не ухудшило репутацию узбеков в глазах подполковника Мурдида.
«Танкисты – стальная грудь Отчизны…»
После блаженства учебных сборов военная судьба повернулась к Сорокину лицом: он прибыл на новое место – командиром танкового взвода – и понял, что значит старшинская присказка «Чтоб служба мёдом не казалась…».
Сорокин до, во время и после прохождения службы слышал не одну сотню рассказов о «непобедимой и легендарной Красной Армии», прочитал не один десяток опусов (незабвенные «100 дней до приказа» Ю. Полякова – самый щадящий вариант описания казарменного быта), где авторы и исполнители выводили два нехитрых мотива: личный героизм рассказчика (автора) и «свинцовые мерзости» службы (дедовщина, тупость командиров, воровство прапорщиков, отсталость и бардак).
Ничего героического Сорокин не совершил, страну не спасал, врагов не разил. Все тревоги, связанные с особенностью реагирования армейского механизма на внешние раздражители (ночёвка в оружейке с 10 по 12 ноября 1982 года, «шутка» Рейгана о начале атомной бомбардировки СССР 4 сентября 1983 года, повышенная боеготовность во время похорон Ю. В. Андропова) казались естественными, обыденными.
«Дедовщины» он не заметил нигде, правда и методы борьбы с ней в дивизии были неординарными. Линейные танковые батальоны формировались солдатами и сержантами одного года призыва, т.е. после весеннего выпуска учебок полностью заменялся состав 1 батальона, все одного призыва, 6 месяцев службы, осенью – состав 2-го батальона, следующей весной – 3 батальон, таким образом предполагалось, что все отношения внутри батальонов будут строго уставными. «Эти штабные придурки» – элегантное определение майора Кочкина – «считают, что пару синяков у духов важнее боеспособности части, батальон не готов ни к чему, всех надо заново учить, не на кого опереться» – заявил громогласно комбат – 1 на полковом разводе после ознакомления с новым пополнением прибывших из «учебок» механиков, наводчиков и командиров танков, чем сильно осложнил и так неблестящую свою карьеру.
Сейчас Сорокин думает, что «дедовщина» эта – следствие малой занятости и бессмысленности большей части занятий воинов Советской Армии, а также выстраивание естественной иерархии внутри искусственно заданных моделей поведения.
Для самого Сорокина такая система комплектования оказалась спасительной, он в январе 1983 года принял взвод, состоящий только из «дедов», все они ждали дембеля в апреле, но не все его дождались даже в июне. Именно эти «деды» и научили Сорокина всем танковым премудростям, водить Т-62 и стрелять из него к весне он научился на твёрдую «четвёрку», полностью подтвердив мудрость великого и ужасного комбата Кочкина. После представления командованию танкового батальона лейтенант Сорокин выразил сомнение в возможности стать танкистом, если готовили его на мотострелка.
«Лейтенант, ты русский? Образование высшее? Не ссы, в Ковровской учебке за полгода из неграмотного чабана делают наводчика, ты у меня через полгода призы будешь брать, если начнёшь служить и перестанешь менструировать…» – комбат был прав, Сорокину даже понравилось чувствовать себя «чугуном», «сорок тонн говна» (так майор Кочкин любовно называл Т-62) вскоре начали слушаться свежеиспеченного танкиста.
В мае пришли «духи», но Сорокин уже знал, что с ними делать, чему учить и что спрашивать. В мае же стало известно, что осенью состоятся дивизионные учения с боевой стрельбой в присутствии командующего Московским военным округом генерала армии П. Г. Лушева (1923 – 1997 гг.)
2 и 3 батальоны состояли уже из «дедов» и «черпаков», поэтому первый батальон получил 4 месяца непрерывной полигонной подготовки. «Хочешь что-нибудь узнать – начни этому учить…». За 3 летних месяца Сорокин ночевал в городе и пировал в «Столбах» (это быстро стало синонимами) раз 6, высох, почернел, перестал менструировать и стал танкистом, по команде «По местам!» крышка люка на 8-й секунде хлопала его по голове, взвод выполнял все нормативы с запасом, сам он гонял свой «334» «змейкой», по буеракам, ямам и грязи, которых не боятся ни танки, ни танкисты.
Вождение перемежалось стрельбой из всех видов танкового вооружения, правда из пушки стреляли «вкладным стволом» калибра 23 мм, чтобы экономить штатные снаряды калибра 115 мм. К Дню танкиста (для тех, кто не в танке – второе воскресение сентября) вернулись в Дзержинск, два дня отдыхали всем батальоном (офицеры – в «Столбах», личный состав – в казарме) и начали готовиться к дивизионным учениям, которые должны были проводиться в знаменитом ГУЦе – главном полигоне МВО, в лесах к западу на 40 км от благодатного Дзержинска.

