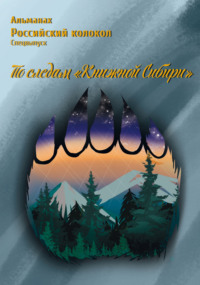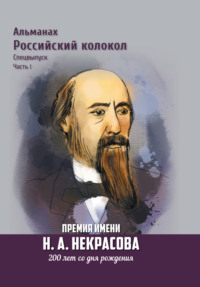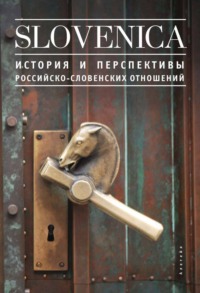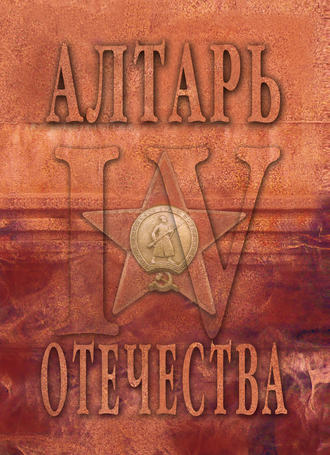 полная версия
полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том 4
В своей статье Егор писал, как ему хотелось летать, но потом он понял, что и его неприметная работа техника тоже очень важна и необходима в авиации. Его наградили «от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество». В конце статьи Егор писал: «Дорогой товарищ, к которому я обращаю эти строки! Помни: Родина видит всех. И независимо от того, летаешь ли ты на самолёте, ведёшь ли огонь из танка или ремонтируешь выведенную из строя материальную часть, ты всюду воюешь. Родина видит всех, друзья!»
Информация комиссара П.В. Крутова
Это было в бывшем Ленинградском котлотурбинном институте, где размещался личный состав 12-й КОИАЭ. Комиссар Павел Васильевич Крутов собрал личный состав на очередную политинформацию. Техник Анатолий Бакшаев, как и некоторые другие, пришли отёчными от голодной дистрофии. Комиссар стоял с палочкой – указкой в руке возле развёрнутой карты Московской области и поджидал прихода остальных. Вид комиссара был бодр, подтянут и опрятен. Всем казалось, что его энергия была неистощима. Пришёл последний, и комиссар начал политинформацию о военных событиях на Московском направлении.
– Дорогие товарищи, – начал он, – хочу вас порадовать, советские войска под Москвой, измотав сильного врага, перешли в контрнаступление.
Слушающие его оживились, выпрямились, ждали с нетерпением продолжения. Он подошёл к карте. Электростанции не работали, и керосиновая лампа тускло освещала контуры карты. Все знали, что столица находится в трудном положении. Фашисты считали, что падение Москвы будет означать конец войны, и на завоевание столицы бросили почти половину всех своих войск, две трети танковых и моторизованных дивизий.
– Да, наша столица является крупнейшим экономическим и культурным центром, важнейшим транспортным узлом страны, важнейшим нервом промышленности, – продолжал Павел Васильевич. – На выполнение фронтовых заказов работают около двух тысяч промышленных предприятий. Огромные заводы, автомобильный «ВИС», «Серп и молот», «Динамо», «Калибр», «Фрезер», «Красный пролетарий» и другие, были и продолжают быть флагманами промышленности страны.
Политинформация продолжалась, и по мере того, что говорил комиссар, у слушателей укреплялась решимость бороться и росла уверенность в победе.
Двадцать второго июня 1941 года в Московском военном округе было объявлено военное положение. За первые шесть месяцев войны ушли из Москвы на фронт около 100 тысяч коммунистов и 260 тысяч комсомольцев – это половина комсомольцев города. Воздушные фашистские налёты на Москву начались 22 июля 1941 года. За первые девять месяцев войны на Москву было сброшено около 1600 фугасных и около 100 тысяч зажигательных бомб. В городе было убито свыше тысячи двести человек и около пяти тысяч четыреста человек было ранено. Москвичи готовились к решающим сражениям. Летом и осенью на подступах к Москве и в самом городе строились оборонительные сооружения, в которых принимали участие шестьсот тысяч москвичей. На улицах и площадях Москвы были сооружены свыше тридцати километров надолб, около десяти километров баррикад, двадцати четырёх тысяч противотанковых ежей, сорока шести километров проволочных заграждений, свыше двухсот артиллерийских и около пятисот пулемётных точек.
Тридцатого сентября 1941 года гитлеровские войска перешли в наступление на всех участках фронта. Огромный фронт от Ладожского озера до Азовского моря был в непрерывных боях. Седьмого октября в районе Вязьмы были окружены советские войска частично Западного и Резервного фронтов. Окружённые войска испытывали лишения, мужественно отражали яростные атаки фашистов. Многие бойцы пали смертью храбрых. Враг захватил города: Калинин, Волокаламск, Можайск, Орёл, вплотную подошёл к Туле. Фашисты готовились отметить парад на Красной площади. Гитлер заявил, что парад будет принимать сам.
На всех фронтах шло изматывание и уничтожение отборных фашистских войск.

Комиссар 12-й КОИАЭ (слева) П.В.Крутов и командир 12-й КОИАЭ В.А.Рождественский разъясняют личному составу обстановку. Аэродром Гражданка 1942 г.
Девятнадцатого октября Верховный Главнокомандующий объявил Москву на осадном положении. Войска Западного и Резервного фронтов были объединены в один Западный фронт под командованием генерала армии Г.К.Жукова. Вновь сформированным Калининским фронтом стал командовать генерал-полковник И.С.Конев. Была образована Московская зона обороны.
Шестого ноября в Москве на станции метро «Комсомольская» состоялось традиционное торжественное собрание Моссовета, посвященное 24-й годовщине Октября. С докладом выступил председатель ГКО И.В.Сталин.
Весь советский народ слушал по радио его выступление. Народ верил, что наступит момент, когда фашисты потерпят крах.
Седьмого ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Советских войск. Мимо мавзолея прошли в суровом молчании воины Советской армии и прямо с парада уходили на фронт. Он находился в нескольких десятках километрах от столицы.
Пятнадцатого ноября, получив подкрепление, фашисты возобновили наступление на Москву. В некоторых местах они подошли к столице на 25–30 километров.
Советские воины проявляли массовый героизм. Вся страна узнала о героизме лётчика младшего лейтенанта Виктора Васильевича Талалихина. Он первым применил ночной таран, сбив под Москвой вражеский бомбардировщик, за что был награждён званием Героя Советского Союза. В последующих боях сбил ещё пять самолётов противника. Погиб в воздушном бою около Подольска.
Героически сражались воины 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.Панфилова. Фашисты рвались к Москве по Волоколамскому шоссе. Шестнадцатого ноября в семи километрах от Волоколамска на разъезде Дубосеково произошёл героический бой с фашистскими танками. В ходе четырёхчасового боя воины под командованием младшего политрука В.Г.Клочкова подбили восемнадцать вражеских танков и не пропустили противника. Большинство бойцов вместе со своим политруком Клочковым пали смертью храбрых, остальные пять бойцов, Д.Ф.Тимофеев, Г.М.Шемякин, И.Д.Шадрин, Д.А.Кожубергенов и И.Р.Васильев были тяжело ранены. Этот бой под Дубосеково вошёл в историю, как подвиг 28-ми панфиловцев. Всем его участникам было присвоено звание Героев Советского Союза.
«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Эти крылатые слова принадлежат политруку В.Г.Клочкову.
С регулярными частями Советской Армии бок о бок шли советские мстители – партизаны. Они наносили врагу ощутимые удары. В одном из партизанских отрядов сражалась московская школьница Зоя Космодемьянская. Она ходила в глубокий тыл врага и приносила ценные сведения о противнике, выполняла боевые задания. В ноябре 1941 года, выполняя задание, Зоя была схвачена фашистами у деревни Петрищево Верейского района Московской области. Фашисты пытали её, чтобы она выдала сведения о партизанском отряде. Она ничего не сказала, даже своё имя скрыла, назвала себя Таней. Двадцать девятого ноября она была публично повешена у деревни Петрищево. Ей, первой женщине, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, её подвиг вдохновлял бойцов. Имя Вой Космодемьянской стало легендарным.
Защитники Москвы проявляли массовый героизм, многие остались безымянными.
Фашисты считали, что советские войска сражались из последних сил, но они в этом глубоко ошибались. Именно в это время разрабатывался и уточнялся план разгрома гитлеровских войск.
Двадцать девятого ноября фашистам нанесены контрудары по южным и северным группировкам. Тогда же противник был отброшен за реку Нарва, были отбиты атаки севернее Тулы. Инициатива стала переходить к советским войскам. Попытки противника прорваться к Москве были сорваны. Советские войска выстояли и обескровили врага. С шестнадцатого ноября по пятое декабря немцы потеряли под Москвой свыше 155 тысяч убитыми и ранеными, около 800 танков, 300 орудий и до 1500 самолётов. Моральный дух фашистов был надломлен. Самым трудным периодом в боях под Москвой был, когда враг подходил Истре. Именно тогда было сформировано двадцать пять батальонов и рот, на три четверти состоящих из коммунистов и комсомольцев, именно они спасли Москву.
(После войны об этом писалось в «Правде» 15 июля 1993 года). Готовились войска Западного фронта, Калининского и правого крыла Юго-Западного фронта. Вся авиация была подчинена этой единой цели.
Фашистские войска были растянуты на тысячекилометровую линию фронта. Стояла суровая зима с сорокаградусными морозами. Враги не рассчитывали воевать в зимних условиях. Им предстояло сражаться с Советской Армией, решительно настроенной защитить свою Родину, свой народ, родных и близких от фашистской чумы.
Настало пятое декабря. Наступление началось внезапно для врага. Заговорили гвардейские миномёты – зенитные «катюши». Их поддержала артиллерия всех калибров. Обрушились на врага краснозвёздные танки, в бой ринулись с автоматами сибирские дивизии.
Это был мощный, сокрушительный удар! Это было первое поражение гитлеровцев за время всех их злодеяний в Европе.
Восьмого декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всём советско-германском фронте, включая Московское направление.
Девятого декабря советские войска освободили Рогачёво. Одиннадцатого декабря – Истру, двенадцатого – Солнечногорск, пятнадцатого – Клин, шестнадцатого – Калинин, двадцатого декабря – Волоколамск. Свыше одиннадцати тысяч населённых пунктов были освобождены от фашистского рабства. Была ликвидирована опасность окружения Тулы. Противник был отброшен от Москвы на 100–250 километров. Советские войска разбили одиннадцать танковых, четыре моторизованных и двадцать три пехотных дивизии. Перед войсками западного направления оставалась задача окружить и разгромить главные силы группы армий «Центр». Но для этой цели наличных средств было недостаточно. Перешли к подготовке сил для дальнейших сокрушительных ударов.
Вот об этом поведал личному составу комиссар П.В.Крутов. Тезисы его выступления, конечно, не сохранились, но события того времени были такие.
В январе-феврале 1942 года противник находился от Москвы в 100–350 километрах. Были освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской, Смоленской, Рязанской и Орловской областях. Были выведены из строя шестнадцать дивизий и одна бригада врага. План «молниеносной войны» был сорван, рассеян миф о «непобедимости» германской армии, вырвана инициатива у врага, война приняла затяжной характер.
В гитлеровской армии появилось дезертирство, неповиновение, самовольный отход. Были освобождены от должностей тридцать пять генералов, в их числе были генерал фельдмаршал Браухич, Бок, генерал-полковник Гудериан. Произошло ослабление блока фашистских государств. Правящие круги Японии и Турции воздержались от выступления на стороне Германии.
Для советских войск стала возможность подготовить и скрытно сосредоточить резервы. Был накоплен опыт крупного ведения наступательных операций. Разгром под Москвой способствовал сплочению и оформлению антифашистской коалиции государств и народов. Правительства США и Англии ещё в первые дни войны заявили о своей поддержке Советского Союза в его борьбе против гитлеровской агрессии. Двенадцатого июля 1941 года СССР и Англия заключили соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Второго августа правительство США заявило, что оно будет оказывать СССР экономическое содействие. К лету 1942 года моральную поддержку Советскому Союзу оказали двадцать восемь стран мира.
Трагическое ЧП
Это чрезвычайное происшествие произошло восьмого января 1942 года. А случилось оно так:
В 12-ю КОИАЭ поступил новый самолёт ЛаГГ-3. Его надо было облетать. Поручили это лучшему и самому опытному лётчику, старшему лейтенанту Петру Петровичу Смирнову. Готовил самолёт к облёту младший воентехник Владимир Богунец, постоянный механик П.П.Смирнова. До войны их самолёт считался «эталоном», а экипаж образцовым, по нему равнялись все механики авиаэскадрильи.

Пётр Петрович Смирнов с женой и сыном
Самолёт поступил с завода, изготовлен в военное время, с массой конструкторских недоработок, с производственными и эксплуатационными дефектами. Основные его силовые узлы были изготовлены из прессованной в горячем виде сосны и фанеры, «дельта-древесины», со специальной смолой, называемой клеем ВИАМ Б-3. Дюралюминия, лёгкого «крылатого металла», в стране не хватало, конструкторы вынуждены были применить дерево. Полётный вес самолёта был высок, двигатель слабый. Требовалась большая взлётно-посадочная площадка, которой явно не хватало. Снежный покров взлётно-посадочной полосы (ВПП) был недостаточно укатан, это тоже увеличивало опасность при взлёте в наборе скорости для отрыва. Возможно, не полностью был включён форсаж – предельно максимальная мощность двигателя. Самолёт пробежал ВПП, но не набрал достаточной скорости для подъёмной силы. Пётр Петрович, опытнейший лётчик, хотел оторвать самолёт при помощи рулей, но это не получилось из-за малой скорости. Самолёт скапотировал, Пётр Петрович погиб.
Личный состав авиаэскадрильи тяжело скорбел. Состоялись похороны Петра Петровича. Это были первые похороны за всю войну. Много погибло лётчиков, но все оказались в водах Балтики или на других аэродромах. Весь личный состав, свободный от вахты, принял участие в похоронах. Хоронили на Ржевском кладбище при сорокаградусной стуже самого любимого и доброго человека, который так много совершил подвигов для разгрома врага.
Гроб, обитый красным кумачом, стоял на краю могилы, прямо на снегу. Траурный митинг открыл комиссар П.В.Крутов. У многих на глазах были слёзы. Инженер отряда А.М.Матвеев, старейший из 12-й КОИАЭ, вспомнил службу в Липово, они были первыми в этом гарнизоне. Комсорг Егор вспомнил, с каким обожанием он, только что окончивший авиаучилище, смотрел на своего командира звена, лучшего «бомбардира» части. Добрые слова сказали близкие товарищи, все клялись быть беспощадными к врагу, принёсшему столько горьких потерь, безвременной гибели молодых, талантливых, отважных, только начавших жить.
Так не стало корифея 12-й КОИАЭ, старшего лейтенанта Петра Петровича Смирнова.
Письмо сына
Это было на аэродроме Новой Ладоги в 1942 году.
Три молодых лётчика, Борис Копьёв, Виталий Корнилов и Михаил Масленников прибыли из лётной школы на пополнение в 12-ю КОИАЭ. Все лётчики 12-й КОИАЭ в это время находились в Богослово на переучивании, их же временно поселили в землянке и приказали обеспечивать сопровождение на боевое задание штурмовиков 57-го авиаполка.
Они выполнили боевое задание, но в бою потеряли своего друга, Михаила Масленникова.
– Чем будешь заниматься? – спросил Виталий.
– Мне надо написать письмо матери, давно не писал, – ответил Борис.
Виталий ушёл в другую землянку, а Борис достал лист бумаги и начал писать.
«Дорогая мамочка! Давненько не писал тебе писем, прости за это. Я знаю, что ты ждёшь моих писем каждый день. Сообщаю тебе, что я жив и здоров, летаю на боевые задания, бьём фашистов. Целый день нахожусь на аэродроме и поздно прихожу в свою землянку. 14-го марта рано утром в нашу землянку пришёл посыльный штаба полка и сообщил, чтобы мы с Мишей Масленниковым срочно прибыли на стоянку. Мы получили задание сопровождать штурмовиков. Противник пытается прорваться к Московской железной дороге. Штурмовики нуждались в нашем охранении. Снизу они защищены бронёй, а сверху брони нет, их могли сбить немецкие истребители. Мы летели к деревне Кондуя, где было много вооружённых фашистов.
Нас было четверо, два штурмовика и мы с Мишей. Пролетели двадцать минут, увидели скопление техники фашистов и стали перестраиваться для нанесения удара. Наша задача охранять штурмовиков от немецких самолётов. Вдруг я заметил немецких истребителей, дал сигнал Мише, покачал крыльями. Но он, наверно, не заметил сигнал и продолжал спокойно лететь.
«Мессера» пытались подойти к штурмовикам, но я дал заградительный огонь из пулемётов. Немец вышел из-под обстрела, сделав крутую горку. Потом двое напали на меня. Я стал отбиваться, тоже нападал и стрелял из своих пулемётов, завязалась драка. Мне попадало больше, их было двое, зато отвлёк их от штурмовиков. Мишу Масленникова я больше не видел, очевидно, его сбили в начале боя. Фашисты старались разделаться со мной, чтобы я не мешал им нападать на штурмовиков, но сбить меня им не удавалось, я маневрировал. Тогда они изменили тактику боя, один повис надо мной и не давал маневра, другой напал на замыкающего штурмовика. Он заходил сзади, где не было стрелка, самолёт старой конструкции, хвост был уязвимым местом, видно фашист был опытный и знал об этом.
Увидев угрозу штурмовику, я бросился на защиту, позабыв о себе. Вклинился между немцем и штурмовиком. Немец не довёл атаки до конца, сделал крутую горку и пошёл в атаку на головной штурмовик. У него была большая скорость и свобода маневра. Я стал преследовать его. Он сделал левый разворот и аккуратно вписался в ось прицела моего самолёта. Мне оставалось только нажать на гашетки пулемётов, что я и сделал. Я видел, как трассирующие пули гасли в корпусе фашистского самолёта. Мне повезло, и я не растерялся. Фашист завис, потом вошел в отвесное пике.
Второй фашистский истребитель преследовал меня и расстреливал, но я не обращал на него внимания. Наверное, лётчик был молодой и неопытный, не смог попасть в уязвимые места.
В то время как фашисты возились со мной, штурмовики делали своё дело, два раза заходили на цели. Я был предельно внимателен, смотрел во все стороны, но противников больше не видел. Посмотрел на землю и увидел два пламени пожара, перевёрнутые танки, фашистов, которые метались во все стороны, искали и не находили спасения, горели склады с горючим. Это было возмездием за страдания нашего народа.
Штурмовики освободились от груза, сделали своё дело, повернулись на свой аэродром. За ними топал я. Внимание было напряжено. Посмотрел на крылья своего самолёта, увидел четыре пушечных пробоины, обшивка болталась клочьями. Левой ногой стало трудно работать. Боль усиливалась, но я
терпел. В глазах ещё мелькали фашистские самолёты, картины боя. Я думал, почему они не попали в меня, а только угодили в крылья? Если бы их снаряды попали в бензобак, то мне было бы худо. Их пушки «эрликон» стояли в плоскостях, наверно не попадали в фюзеляж моего самолёта, а били по сторонам. Всё время смотрел на штурмовиков и радовался, что все они летели целыми.
Пролетели линию фронта, обозначенную дымами и огненными вспышками. Оглянувшись назад, я увидел фашистского истребителя «мессера», который летел на одной высоте со штурмовиками, он подкрадывался к замыкающему. Приблизившись к нему, я повернул вправо и оказался в выгодной позиции, ось прицела моего самолёта глядела прямо в нужную точку. Я нажал на гашетки, но очереди не последовало, кончились патроны. Я был сзади фашиста на дистанции 50 метров. Фашист не знал, что я обезоружен. Боясь столкновения со мной, он нырнул под штурмовики. Высота была маленькой, он коснулся верхушек деревьев, упал и загорелся. Этим закончились и его зверский план, и его жизнь.
Снова я лечу над заснеженными полями вместе со своими штурмовиками. Показался наш аэродром, штурмовики стали делать посадку. Приземлились все нормально, а мне пришлось идти на второй заход, не выпускалась нога шасси. Мне пришлось сделать несколько фигур высшего пилотажа, чтобы принудительно вытолкнуть ногу, но она не выпускалась. Мотор чихнул белым дымом. Я понял, что искушать судьбу не следует. Решил садиться на одну ногу. Самолёт катился на одном колесе, я выключил зажигание, правая плоскость коснулась земли, самолёт пошёл на крутой поворот и замер. Я пытался выйти из кабины, но нога оказалась непослушной, из неё текла кровь. Приехала санитарная машина и увезла в санчасть. Мама, ты не переживай, рана оказалась небольшой, перебиты только мягкие ткани. Когда техник самолёта Анатолий Бакшаев убрал повреждённый самолёт с посадочной площадки, при осмотре обнаружил семь пушечных пробоин, более двадцати пулевых, повреждён снарядом механизм выпуска ноги, пробита головка верхнего цилиндра мотора. Через некоторое время ко мне в санчасть ворвались лётчики со штурмовиков, обнимали меня, даже целовали. Командование представило документы о награждении меня орденом Красного Знамени.
Мама, ты родила меня счастливым. Береги себя. Обнимаю и целую, твой сын Борис».
Мария Ивановна Копьёва получила в один день два конверта. Одно письмо от сына Бориса, второе с благодарностью от его товарищей – лётчиков, подписанное секретарём комсомольской организации войсковой части № 49280 Егором Бурановым.
В тот же день она села писать ответное письмо.
«Дорогой сыночек, пишет тебе твоя мать. У меня радость, получила сразу два письма, от тебя и от твоих товарищей. Спасибо, что находишь время написать письмо. Передай своим товарищам мою благодарность и пожелание успехов. Горжусь тобой, сынок, ты храбро сражаешься, вступаешь в бой с врагом сильнее тебя, молодец, что выручаешь товарищей, они тебе тоже помогут в трудную минуту. Теперь коротко сообщу о себе и твоих близких. Все мы работаем на своих местах. Твоя крёстная болела, сейчас ей стало легче. Вместе с Тамарой они доноры, вот уже второй год сдают кровь. На днях и я пойду, хоть чем-нибудь помогу фронту. Пусть наша кровь спасёт бойцов, которые защищают нашу Родину и нас от проклятых врагов. Мы счастливы, что живём в столице и участвуем в её обороне. Воздушные налёты на Москву начались 22 июля, до декабря было 122 налёта, в них участвовало 8 тысяч самолётов, к городу прорвались 229. Так передают сводки, мы слушаем каждый день. Москву зорко охраняют лётчики, зенитчики, прожектористы и бойцы Красной Армии. Многих рабочих мобилизовали на фронт, женщины заменили их на производстве. Я дежурю на крыше, тушу зажигательные бомбы. Боря, я очень переживаю за Володю. Давно нет от него письма. Сердце моё не знает покоя, всё время вы у меня в мыслях. Пиши, как только можно чаще. Будь счастлив. Твоя мать».
Мария Ивановна сложила конверт, вышла на улицу и опустила в почтовый ящик.
Много пришлось совершить боевых полётов Борису Сергеевичу, самолёты стали поступать улучшенной конструкции, но бои 1941-42 годов останутся в памяти навсегда.
Михаил Масленников не вернулся с поля боя. Вечная ему память и благодарность потомков за спасённую Родину и жизнь.
Командировка
Егора вызвали на КП.
– Вам предстоит командировка, товарищ Буранов, – сказал инженер Б.А.Срыбник, – на аэродроме Гажданка надо принять самолёт ЛаГГ-3. Принять надо по всем правилам, вас этому не учить. Ответственность большая.
– Постараюсь выполнить, как надо. Когда? – спросил Егор.
– Сейчас же идите, переоденьтесь и на самолёте По-2 вас доставят в Ленинград.
Егор пошёл, переоделся в шинель, сел в самолёт и полетел в непривычном для себя качестве пассажира. Через некоторое время они уже были на аэродроме Гражданка. Егору показали самолёт, который передавался. Раскрыли капоты, и началась приёмка. Дефектная ведомость состояла из нескольких пунктов незначительных недоделок, которые быстро устранили. Для перегонки самолёта прилетел с Новой Ладоги лётчик, сел в кабину и улетел. Сообщили, что посадку произвёл нормально.
– А как со мной? – спросил Егор на КП.
– Оказии не предвидится, – ответили руководящие полётом, – вам придётся добираться автотранспортом.
День подходил к концу, Егор стал искать ночлег. Доехал трамваем до моста Лейтенанта Шмидта, чтобы отыскать гостиницу. Вдруг, по радио начали передавать: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Все соскочили с трамвая и укрылись под мостом. Егор слышал, как пролетела бомба с шумовым эффектом, как она взорвалась совсем близко.
Ноги у Егора промокли, на них стал намерзать лёд. Когда объявили конец тревоги, ноги оказались тяжёлыми от примёрзшего льда, сделались вроде колодок. Егор поспешил найти тепло, чтобы не отморозить ноги. Было совсем темно, когда он вышёл во двор незнакомого дома.
– Мне нужен домуправ, – спросил он первого попавшегося.
– Идите в эту дверь, – ответила женщина.
Егор постучал, дверь открыла женщина лет сорока. Егор объяснил, что ему надо переночевать.
– Надолго ли? – спросила женщина с заметным эстонским акцентом.
– Только до утра, – ответил Егор.
– Ой, да что же я, – спохватилась женщина, увидев мокрые ботинки Егора, – вы же замёрзли, садитесь и разувайтесь.
Егор снял ботинки, опустил ноги в подставленный таз с горячей водой.
– Мой муж моряк, служит на корабле в Кронштадте, дома не бывает, – сказала хозяйка.