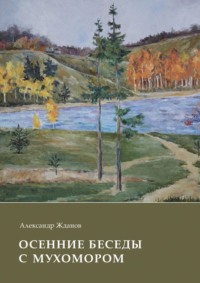Полная версия
Алые хризантемы

Алые хризантемы
Рассказы майора Фролова
Александр Жданов
Вам, прошедшим тропами войны – павшим и живым;
вам, надрывавшимся в тылу у станков и на полях;
вам, падавшим в изнеможении на блокадный снег.
Всем вам, спасшим мир от уничтожения,
посвящает свой скромный труд
автор.
© Александр Жданов, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Отдельная благодарность жене моей Людмиле
и кузине Олесе Пащенко, подарившим некоторые сюжеты и поделившимся важными подробностями.
Синяя папка
с серыми тесемками
(вместо предисловия)
– Ну и о чем мы с тобой молчать будем? – серьезно спросил Фролов. Он явно ждал ответа, и было ясно, что странный вопрос он задал не для того только, чтобы начать разговор.
– А, не понял, – продолжил он. – Плохо. Ну, ладно, попробую объяснить. Это очень важно, когда у людей есть общая тема для молчания. Тему для разговора можно найти какую угодно и с кем угодно. Когда ты трясешься в купе, ты же находишь о чем поговорить с попутчиками, хотя вы только встретились, скоро разойдетесь и, может, никогда больше не увидитесь?
– Не совсем так. Я большой молчун. Разговариваю в дороге неохотно.
– Какой же ты тогда журналист? Ну, да не это сейчас важно. Я говорю, что о чем бы вы в дороге ни говорили, поддержать разговор несложно. А вот совместное молчание может быть тягостным. Это, когда ты не знаешь, что хочет от тебя услышать сидящий рядом. И он не знает о тебе. А вот если есть у вас точки соприкосновения, то и молчание для вас что увлекательная беседа. Учти это. И давай искать темы молчания, – завершил Фролов и откинулся на спинку дивана. Скрестив на груди руки, прищурив один глаз, он попыхивал трубкой и, кажется, оценивал, какое впечатление произвел своей речью. А я и не знал, что сказать в ответ. Так мы и познакомились со старейшим на тот момент журналистом области, участником Великой Отечественной войны, военкором майором Фроловым.
Петр Тимофеевич любил представляться по званию, хотя давно, очень давно пребывал в отставке – сразу после войны и вышел. Он был уже очень не молод, даже стар, но сохранил блистательную ясность ума при общей физической слабости. Я и до встречи нашей был много наслышан о нем – и о его военной отваге, и о любовных «подвигах» уже в мирное время.
Майор был, как говорится, ходок. Редкую юбку пропускал мимо. И ведь внешне ничем не привлекателен: низкорослый, худощавый, но, видно, мог чем-то прельстить женщин, если бросались они к нему в объятия. У Фролова была мудрая жена. Вышедшая за него замуж еще на фронте, она в мирное время не то чтобы смирилась с изменами мужа, не то чтобы безропотно приняла их – она научилась обращать все в смех и насмешливым отношением гасить каждый новый любовный пожар, разгоравшийся в его неугомонном сердце. А один случай был вовсе смешным. В последний раз бес ткнул майора в ребро, когда тому исполнилось шестьдесят. Новая его страсть жила в соседнем от майора доме. Однажды ночью его сильно потянуло к новой своей возлюбленной. Он осторожно, чтобы не будить спящую рядом жену, встал, вылез через окно (благо жили Фроловы на первом этаже), быстренько добежал до соседнего дома и по водосточной трубе полез на второй этаж, к балкону своей избранницы. До балкона оставалось совсем немного, когда снизу раздался очень спокойный голос:
– Ну что, так и встанешь перед ней в этих синих семейных трусах и одном носке? На уж, возьми второй.
Внизу стояла жена Фролова. Она держала в руках второй носок мужа. Только тут обнаружил майор, что второпях он действительно успел натянуть только один носок и не надел брюки. После этого весь любовный пыл Фролова пропал, и он сполз по трубе на землю.
– Пошли уж, Дон Жуан, – сказала жена, и Фролов поковылял следом за ней. Второй носок он нес в руке.
Но эта и другие подобные ситуации не могли заслонить главного: на войне майор Фролов был настоящий солдат. Он честно воевал. Участвовал, например, в танковом сражении под Прохоровкой. Даром что был командирован туда как военный корреспондент, он находился внутри, в танке.
– Ты не представляешь, – говорил он мне, – что это было. Не просто поддержка танками атаки, это было настоящее танковое сражение – броня на броню.
Он рассказывал о том, что видел. Например, об уникальной операции взаимодействия нескольких партизанских отрядов с частями действующей армии. Операция была тщательно разработана, его, журналиста, забросили в отряд. Он писал материал, пробиваясь вместе с отрядом до его соединения с пехотным полком. Так что видел он много. По праву старшего по возрасту и званию, по праву старого журналистского волка он покровительствовал мне. А я с удовольствием общался с ним, расспрашивал.
В странное время свела нас судьба. Кто-то назвал его временем сдачи позиций. Мы стали тогда как будто стыдиться того, чем совсем недавно гордились. Я побывал в воинской части. В бывшей воинской части ракетчиков. Должен был сделать оттуда радостный материал о том, как мы преодолели наследие холодной войны, разоружились и уничтожили свое вооружение. По части меня водил полковник с грустными глазами. Единственный, пожалуй, оставшийся в полку. Он показывал пустые шахты – что уж тайну из них делать, когда тут американцы побывали и своими глазами все видели! – провел в конференц-зал, где проходило подписание с американцами каких-то важных документов. На длинном овальном столе по обе его стороны стояли так и не убранные флажки США и СССР. Полковник рассказывал и все время смотрел куда-то вниз. Потом замолчал и медленно поднял глаза – такой безысходной тоски прежде видеть мне не приходилось. Но полковник молчал. Когда вокруг бурно и наивно радовались новой жизни, молчание полковника не было знаком согласия. Так вот и Фролов молчал. Ни разу не говорил он со мной о «текущем моменте». Не думаю, чтобы он не замечал происходящего и никак его не оценивал. Он был сосредоточен на другом. На чем – я понял лишь, получив его синюю канцелярскую папку.
К приближавшемуся юбилею Фролова я готовил о нем очерк. Мы сидели за большим круглым обеденным столом, на котором он, как обычно, разложил старые фотографии, вырезки из фронтовых газет, бережно им хранимые. Пётр Тимофеевич рассказывал. Но потом он вдруг прервался, сгреб рукой все документы, едва не скинув их со стола, и сказал:
– Брось. Ерунда все это. Очерк ты и так напишешь – все про меня знаешь. А вот гляди, что я тебе покажу.
Он встал, подошел к старомодному секретеру, откинув убирающуюся столешницу, достал изнутри толстую канцелярскую папку – синюю с посеревшими от времени тесемочками.
– Вот это – главное, – сказал он, похлопывая по папке. – Это настоящая война. Не атаки и прорывы, а люди. Здесь мои рассказы. Я писал их с самой войны до последнего времени. О людях, о том, что они думали и чувствовали. Со многими из них я сталкивался. Я так и не удосужился их опубликовать. Сделай это после моей смерти. Почеркай где, если сочтешь нужным, и опубликуй.
И еще он сказал что-то вроде завещания:
– Ты знаешь, я часто думал: появится ли когда-нибудь новый Толстой, чтобы написать новую «Войну и мир» – об Отечественной войне? И сейчас уверенно говорю: нет. Не под силу одному человеку написать роман, где было бы все: действующая армия со всеми родами войск и партизанское движение, блокада и работа предприятий в эвакуации, жизнь эвакуированных в Средней Азии, пацаны за станками и бабы, впрягшиеся в плуги, СМЕРШ и войсковая разведка, кабинет главковерха и солдатский окоп с дымом, вшами и мокрыми сапогами. Словом, всё-всё. Одному это не поднять. Поэтому важно каждое свидетельство, каждый рассказик. Изо всего этого и сложится эпопея.
Кавалер трех орденов, военный корреспондент майор Фролов не дожил до своего столетия нескольких дней. Папка с рассказами осталась у меня. Я должен был исполнить его волю. Я ничего не изменил, даже расположены рассказы не в хронологической последовательности, а так, как лежали эти десять рассказов в папке майора.
Награда
I
Высоту все-таки взяли. Даже не высота то была – так, сопочка небольшая. Но за нее фрицы дрались отчаянно, долго не подпускали к ней. Важная, видать, точка была. Ротный, правда, в стратегические разъяснения не вдавался, а лишь сказал:
– Нужна она нам, хлопцы, эта высота. Ну, очень нужна. Без нее нам никак.
Так, без приказа, без громких призывов, а по-доброму, по-свойски сказал. Понимал: прочувствовать бойцы должны, сами понять. А они и понимали. Все понимали всё. Понимал и младший сержант Гаврилов, командир пулеметного отделения. Его понимание было простым. Недавно лишь освободили его родную Псковщину. Сейчас гнали фрицев по Прибалтике, и допустить, что снова наши отойдут, снова войдут немцы к нему деревню, он не мог. И рванулось его отделение вместе со всей ротой, и бежали бойцы в атаку, зная, кому где быть. Это знание было уже не в головах, а в ногах, в руках. Не надо было вглядываться вперед, осматриваться по сторонам. Тело, привыкшее к войне, знало, когда и куда бежать, где упасть, куда пристроиться, чтобы лучше и безопаснее было стрелять. Тело выбрало холмик – и прикрыты все, и обзор хороший. Здесь и залег младший сержант. Отсюда он поддерживал огнем наступление и прикрывал отход роты.
Отходить стали внезапно, пятясь под натиском контратакующего противника, теряя бойцов. Даже прокричать об отступлении не успел ротный, а, может, – и скорее всего! – кричал, но Гаврилов не расслышал приказа. Отделение осталось за холмиком. «Приказа отступать не было!», – себе самому сказал Гаврилов, и пулеметный треск стал непрерывным.
Время кончилось, исчезло. Время растворилось в дыму и пулеметном стрекоте. Оставалось пространство впереди, на которое младший сержант Василий Гаврилов не должен был допустить врага.
И пулемет, казалось, трещал уже сам по себе, словно понял он, что нужно делать, словно подчинялся не глазу и рукам младшего сержанта, а его чувству и воле. Пулемет сам поворачивался туда, где это было нужнее всего. Краем глаза заметил отделенный, что патронов в ленте осталось немного – может не хватить. «Не продержимся», – подумал, но сразу отогнал мысли, прокричал что-то бойцам. И тут же услышал-почувствовал, как сзади накатывается, всё обгоняет такое родное, свое «Ура!». И услышал уже четко рядом и сверху голос ротного:
– Гаврилов, Гаврилов! Ну как ты, что у тебя?
Поднялся, чтобы доложить, и тут же рухнул прямо на руки ротному – подкосилась правая нога. Теперь только заметил, что штанина потемнела и влажная, а в сапоге хлюпает. Только теперь ощутил боль. Теперь только понял: рота снова здесь, вернули себе высоту, а значит, обеспечат проход основным силам.
Пока перетягивали ногу жгутом, останавливая кровотечение, пока перекладывали его на плащ, чтобы вынести в безопасное место, ротный поддерживал голову отделенного и всё приговаривал:
– Это ты молодец, Гаврилов. Это – орден, друг ты мой дорогой. Ты только потерпи, только держись. Сейчас подлечишься, а награда не уйдет.
Но держаться он больше не мог. Улыбнулся ротному – и потерял сознание.
Очнулся в госпитале.
II
… – В госпитале он очнулся. Ты, Филиппыч, доконал уже своей байкой. Ну и где твой орден? Обманул что ли тебя ротный? Или ты нам заливаешь? Не было никакого боя, а ты драпал – и получил в ногу, а, может, в мягкое место? А? Ну сознавайся!
Сидящие в кружок в гараже приятели подтрунивали не зло. Привыкли они к этим рассказам, когда выпивали по кругу. Да и сам Василий Филиппович привык к подтруниванию друзей, не обижался. А сейчас обиделся. Горько, больно стало. Даже допивать свою стопку не стал, махнул рукой – вышел из гаража.
Никто не верит. Ни друзья, ни сын. А ведь было, было так! Как же помотала его война! Кем ему только ни пришлось быть! Был и сапером. В октябре сорок четвертого наступали на Ригу. Немцы подготовились: основательно заминировали поле. Какой же дождь тогда лил! Как скользко было ползти! На сапоги налипала грязь, они тяжелели невероятно. Но его отделение под сильным артиллерийским огнем проделало-таки два прохода в минном поле – и пехота смогла продолжить наступление. Вот она, медаль «За боевые заслуги». За этот самый проход в минном поле.
Василий Филиппович сидел на корточках перед табуреткой. Он покрыл ее газетой, разложил награды, поглаживал их рукой. Не везло ему с ними. Вот медаль «За победу над Германией». У друга такая же медаль пропала. И он выпросил у Василия его медаль, чтобы в школу на сбор сходить. Сходил. Потом как-то недосуг было спросить медаль обратно, а друг умер. Когда же после сорока дней пошел он к вдове, та заартачилась:
– Ничего не знаю – все награды мужнины. И вообще – я их в гроб к нему положила.
– Да как же так, Татьяна? Там же моя медаль.
– Ну, не знаю. Не выкапывать же сейчас.
Погоревал, конечно, но выход нашел. Отыскалась у кого-то медаль «За доблестный труд во время войны». Внешне похожа, правда, надпись на реверсе пришлось стереть. Не любил Василий Филиппович эту медаль – не настоящая она была какая-то. А вот орден… Кстати, у брата Викентия, жившего тогда в Омске, орден был. Орден Отечественной войны первой степени. А вот за что – толком брат Викентий объяснить не мог. И не любил разговоры на эту тему. Но Омск далеко – не наездишься. Был у брата всего раз, и поговорить о награде не пришлось. Да и не знали братья, что в военной спешке писарь наградного отдела перепутал их имена. И Викентий не мог совершить того подвига, потому что, еще раньше, потеряв в бою ногу, был списан подчистую.
А к Василию Филипповичу награда всё же пришла. К сорокалетию Победы был он награжден орденом Отечественной войны. Второй степени. Не совсем боевой орден – юбилейный.
Правда, самого младшего сержанта Гаврилова уже год как не было в живых…
Белое платье,
серые туфли
Эта военная фотография почему-то дорога мне особенно. Она сделана на Волховском фронте. На фотографии несколько человек – офицеры и три женщины. Все, кроме одной, в военной форме. А на той одной невозможное на фронте белое платье. Женщина в платье и офицер стоят у стола и расписываются в каком-то документе. Не совсем обычное событие на фронте – регистрация брака.
Да уж, бывает на войне и такое: сержант батальона аэродромного обслуживания и летчик-штурмовик полюбили друг друга. И решили непременно пожениться. Прямо сейчас, не откладывая на «после победы». Летчик был тверд: каждый его вылет может быть последним, и надо, чтобы все было по-человечески. Командование отнеслось к затее с пониманием, назначили день регистрации и скромненькой, как позволяли возможности летчиков, свадьбы.
За три дня до этого три подруги – Ольга, Светлана и Татьяна – обсуждали, как все произойдет, и вдруг Света вскочила:
– Нет, девчонки, это никуда не годится! Олька первая из нас замуж выходит, и что – в гимнастерке расписываться будет? Надо платье шить!
Всегда спокойная и рассудительная Татьяна невозмутимо сказала:
– Конечно, сейчас в магазин пойдём и выберем отрез. Откуда платье-то взять?
– Ну, в магазин не в магазин, а к Порфирьичу пойдём. Айда!
Старшина Крапивин слыл человеком запасливым, хозяйственным, у которого «всё есть». И действительно, умудрялся ведь экономить, хранить самое необычное, которое вдруг становилось самым необходимым. Он встретил подруг приветливо:
– А, здравствуйте, девочки, здравствуй, невеста-краса. Слышал, слышал. Ну, поздравляю.
Тут Светка – сразу к делу:
– Товарищ старшина, нам бы платьице белое…
– Платьице! А я что, магазин или ателье индпошива? Откуда я возьму вам платье?
– Ну, хотя бы материю белую.
– И материи у меня нет.
Тогда вмешалась Татьяна. Невозмутимо и рассудительно она заявила:
– Товарищ гвардии старшина, это первое подобное событие у нас? Первое. Важное? Важное – как никак советская семья создаётся. Так неужели сержанту Ремневой в гимнастерке и штанах в брак вступать?
Татьяна рассчитала все правильно. Крапивина после ранения перевели в батальон из боевой гвардейской части. Он трепетно хранил воспоминания о своем полке, с некоторым вызовом носил гвардейский значок, и ему льстило, когда напоминали о его героическом прошлом.
– Ох, девчонки, разорение мне сплошное через вас, – ворчал старшина. – Ладно, выручу.
Он ушел в каптерку и долго не возвращался. Наконец появился с длинным куском белого шелка.
– Вот, лучший комплект ради вас разорил. Занавески из клуба – всё вожу с собой. Думал вывесить при особом случае. Да, видно, вот он, этот особый случай, и есть. Берите, кромсайте.
– Ой, спасибо, Степан Порфирьич, – девушки с обеих сторон подбежали к нему и расцеловали в обе щеки.
А потом целых два вечера подруги шили свадебное платье.
Все было готово к торжеству – на плац вынесли стол. Положили чернильницу, ручку. Оставалось только подругам нарядить невесту. Но Света застала Ольгу в слезах, сидящей на койке.
– Что? Что случилось?
– Платье, – всхлипнула Ольга.
– Что с платьем? Гладила? Прожгла?
– Нет, платье цело…
– А что тогда ревешь?
– Платье есть, а туфель к нему нет. В сапогах что ли идти? – проговорила Ольга и разрыдалась.
– Фу, ты. А я уж подумала, – Света села на койку рядом с подругой. – Ну, не реви, не реви: что-нибудь придумаем. Сколько у нас времени?
– Час примерно…
– Вот что: перестань реветь, приведи себя в порядок – не хватало еще такой зареванной показаться. А я скоро, – сказала Света и выскочила.
Плакать Ольга перестала. Но теперь появилось другое чувство – волнение, беспокойство. Ольга хорошо знала свою подругу: не было ещё ситуации, из которой Светка не нашла бы выход. Ольга верила в подругу и сейчас. Но как долго тянулись те пятьдесят минут, пока ее не было!
Вернулась Ольга, как и обещала, вовремя. Не вошла – влетела, а в руках держала сверток. В свертке были туфли. Правда, не белые, как было бы уместно, а светло-серые, с изящным каблучком и бантиком. Какими прекрасными показались они Ольге! Она схватила туфли, прижала их к груди и встала, как вкопанная.
– Давай, давай – переодевайся, обувайся. Да быстрее, а то на свою же свадьбу опоздаешь, невеста, – Света теребила подругу. – Кстати, аккуратнее – туфли возвращать надо.
– А где ты их достала?
– Сейчас неважно.
Пришла еще одна их сослуживица, Татьяна, вдвоем они быстро переодели невесту.
– Ну, как невеста? Хороша? – спросила Света, оглядывая подругу со всех сторон.
– Нет, не совсем, – ответила Татьяна. – Где тут у тебя оставшиеся лоскутки?
Татьяна взяла полоску ткани, ловко сложила ее в несколько раз, прихватила кое-где иглой с ниткой – получился цветок. Этот цветок она при помощи шпильки прикрепила к волосам Ольги:
– Теперь полный порядок!
Туфли оказались чуть великоваты и всё норовили соскользнуть с ног, но Ольга шла веселая и радостная. И не было, наверное, в тот момент человека счастливее нее. Ее белое платье и серые туфельки на фоне защитного цвета гимнастерок и галифе, черных сапог и всей походно-полевой эстетики были, как свет маяка в спустившейся пасмурной мгле. Это был свет маяка из мирной жизни, он говорил об истинном предназначении этой девушки со смешными белокурыми кудряшками – быть женой, матерью, хранительницей очага.
Отгуляла скромная военная свадьба. Вечером, когда было уже темно, Ольга вместе с молодым своим мужем вышли на улицу. В лунном свете белый шёлк тускло сиял, казался серебристым. Я загадал тогда: пусть этот серебристый свет светит им долго-долго.
Побег
I
Еще до того, как в деревню вошли немцы, многие мужчины подались в лес. Ушел со взрослыми и пятнадцатилетний Федор. И началась какая-то раздвоенная жизнь. Днем женщины и дети управлялись как-то одни. По вечерам частенько приходили мужики из леса – обстановку разведать, съестным разжиться. Бывало, оставались на ночь – тоскливо же там, в лесу, без жен. Утром снова уходили, и опять деревня оставалась без работников. Но успевшие пожить тесным мужским коллективом вооруженные люди уже не были прежними колхозниками и заботливыми хозяевами, они ощущали себя иначе. И хотя война, по правде говоря, пока проходила стороной и казалась невсамделишной, ее все же ждали. И дождались. К вечеру в деревню вошли немцы. Как раз на Успение.
А тут пришли несколько мужчин из леса. И с ними Федор. Шли-то на праздник, хоть и не отмечавшийся советской властью, но свой, коренной. И знали неверующие мужики, что старухами припасено будет для них особое угощение. Веровать не веровали, но праздник не отвергали. Шли на праздник, а попали в плен.
Федора сразу отделили от взрослых и поместили в маленьком сарае. Бросили на пол и заперли снаружи. Наверное, не собирались расстреливать, а решили угнать на работы в Германию. Многое успел передумать Фёдор, пока сидел в сарае. И школу вспомнил, особенно, как сидел на уроке зимним днем, а с неба тихо-тихо, невесомо полупрозрачной стеной сыпался-лился мелкий снег. Федор представлял, как снег ложится в лесу, как хорошо видны на нем заячьи следы, а, значит, на охоту надо, а не на уроке сидеть. Он уже видел себя идущим на лыжах следом за отцом – след в след, ощущал тяжесть ружья за спиной. И в это время учительница Вера Григорьевна спросила его о чем-то. Он даже не расслышал, хорошо сосед по парте Митька Говоров ткнул в бок. Федя вскочил из-за парты и выпалил первое, что пришло на ум. А на уме были еще видения охоты, потому и сорвалось с языка: «Зайцы пробежали». Как хохотали все в классе! А заливистей всех Танька Яшина. И это было обиднее всего. Потому что именно сегодня он собирался подойти, наконец, к Татьяне и рассказать ей истории, которые должны были непременно понравиться. А потом он вспомнил, как на майские праздники в клубе был концерт, и ему случилось сесть рядом с Танькой. Концерт он не запомнил, потому что жгло его это соседство, аж ухо одно покраснело.
И всё это сейчас может враз закончиться. И не будет больше ни охоты, ни разговоров с Татьяной. Отчаяние и страх овладели Федором.
Ближе к ночи снаружи послышался шорох. Кто-то осторожно вставлял ключ в замок. «Ну, всё – пришли, – подумал Федя. – Сейчас в расход пустят». Стало по-настоящему страшно. Федор, прежде лежавший, сел, попятился сидя, оперся спиной о стену сарая. Когда дверь медленно открылась, в просвете двери появился темный силуэт нескладной фигуры. Согнувшись, человек вошел в сарай – Федор теперь видел лучше. То был совсем молодой долговязый немецкий солдат. Долговязый в прямом смысле – шея была такая длинная и тонкая, что, казалось, в воротнике могут поместиться две. Он напоминал гуся, одетого в военную форму. Да и сидела вся форма мешком. Солдат явно не умел её носить. Он подошел ко всё еще сидящему Федору и, склонившись, прошептал:
– Камрад! Бегать! Бегать! – для большей наглядности он махал рукой по направлению к лесу.
Федор вскочил. Давешние отчаяние и страх исчезли. Теперь недоверие к врагу боролось в душе с жаждой спасения. Немец продолжал что-то говорить по-немецки и подталкивал Федора к двери. У самой двери Федор обернулся на своего освободителя. Тот на прощанье сжал мальчишеский кулачок у плеча и прошептал: «Рот Фронт!». Только сейчас Федор почувствовал близость спасения. Он бросился к двери, неосторожно и даже грубо оттолкнув немца, и побежал. Но тот, похоже, не обиделся. Улыбаясь, он переминался с ноги на ногу, пока спина убегавшего Федора не скрылась за соседним сараем. Потом, озираясь, он так же осторожно и почти бесшумно, как открывал, запер дверь и скрылся.
А Федор бежал. Петлял между сараями и домами, выбежал за деревню и помчался – скорее! Скорее! Спрятаться, уйти от смерти!
Пробежав еще метров двести, Федор резко остановился и присел в траву. «А вдруг это обман, – внезапно подумал он, – чтобы я привел их в отряд. Может, сейчас следят и пойдут по следу?». Он осторожно приподнялся в траве. Огляделся. Пристально всматриваясь в сторону домов, оценил обстановку. Никакого хвоста, кажется, не было. Однако на всякий случай Фёдор решил попетлять. Он свернул с тропинки и побежал. Но тут его ожгла другая мысль: товарищи, мужики. Они все остались там. Их каждую минуту могут расстрелять, повесить, особенно, если обнаружится его побег. И как он мог, спасая свою шкуру, бросить их?! Бросить дядю Игната, кузнеца Прокофия! «Вернуться, попытаться спасти!» – говорил ему голос. Другой здраво рассуждал: «Спасти никого не удастся, а себя на этот раз погубишь наверняка. Да и их тоже. Беги, беги быстрее! Спасайся!». Он понял, что действительно надо бежать. Бежать в отряд и скорее рассказать всё – может, удастся еще спасти друзей.
II
В отряде уже беспокоились. Партизаны, догадывались, что произошло что-то неладное. Федор бросился к отцу, сбивчиво рассказал и выхватил из отцовых рук дымящуюся самокрутку. Затянулся. Первый раз в жизни. Отец не отнял курево, не противился. А с пониманием проговорил: «Покури, покури, сынок».