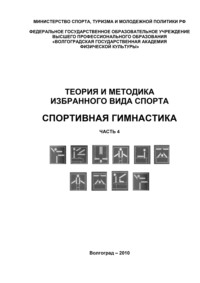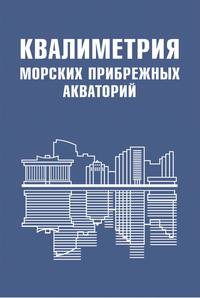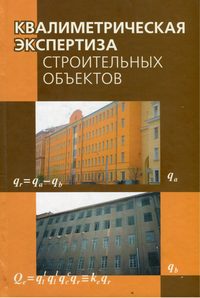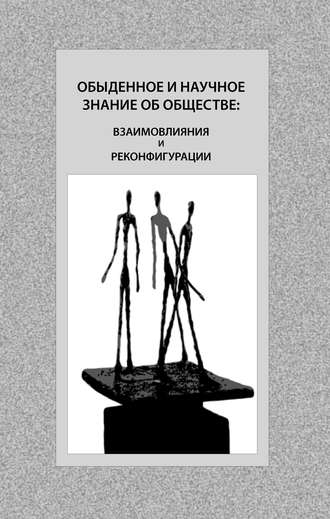
Полная версия
Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
Менее радикальный и, как представляется, более продуктивный подход к уточнению определения знания воплощен в наследующих классической эпистемологии версиях «социальной эпистемологии», подобных предложенной А. Голдманом, которые изначально нацелены на идентификацию и изучение социальных процессов, практик и паттернов взаимодействия между социальными акторами с точки зрения их каузального воздействия – позитивного или негативного – на производство истинных убеждений [26]. При этом основной исследовательский интерес для регулятивной социальной эпистемологии все же представляет описание таких имеющих высокую «веристическую ценность» социальных практик, которые используются в повседневной жизни, в науке или праве, и ведут к повышению правдоподобия выводов, основанных на априорных оценках и доступных в текущий момент данных, либо позволяют корректировать ложные суждения. Примером таких социальных практик могут служить различные методы агрегирования экспертных мнений, практики разделения когнитивного труда, оптимизирующего шансы получить верный ответ на научный вопрос [30] или поддерживаемая научным сообществом институциональная инфраструктура для сохранения стандартов объективности исследовательских методов [37]. Отметим, что, в отличие от регулятивной социальной эпистемологии, преимущественно дескриптивная и объяснительная социология знания должна интересоваться не только повседневными практиками, обладающими высокой веристической ценностью и ведущими к повышению достоверности повседневного социального знания, но и практиками, механизмами и факторами, вызывающими ошибки и заблуждения, однако для этого вовсе не нужно декларировать отказ от категорий «истинности» и «рациональности». Разумеется, разработка теории истины – не задача социолога, однако нормативное стремление к истинности высказываний или, как ни парадоксально это может звучать, обоснованная некими фактами вера акторов в истинность большей части собственных верований – это необходимые атрибуты социологической концептуализации «знания». Эти атрибуты поддерживают возможность описания свойственного не только ученым или юристам, но обычным людям социально организованного настойчивого интереса к верификации суждений, критической коллективной оценке «притязаний на истинное знание» и эмпирических свидетельств, ярким, хотя и очень частным примером которого может служить обнаруженная исследователями способность детей уже в возрасте четырех-пяти лет уверенно различать типы профессиональной экспертизы (врач, автомеханик и т. п.) и верно атрибутировать лежащие в ее основании научные принципы [38].
Само отсутствие систематической традиции исследования социальных практик и механизмов установления истины, помимо обладающих очень ограниченной ценностью попыток сугубо феноменологического описания «процедур, применяемых при установлении истины-в-кавычках», резко контрастирующее с их повсеместной распространенностью в социальной жизни (от известных каждому практических правил обсуждения врачебных диагнозов с другими врачами и имеющими релевантный опыт пациентами до сложных процедур повседневного коллективного арбитража решений относительно каузальной роли и ответственности индивидуальных и корпоративных акторов за негативные последствия их действий для третьих лиц), связано, на наш взгляд, с тупиковым характером социологических версий эпистемологического релятивизма, подобных обсуждавшимся выше. Как нам представляется, выходом из этого тупика является непретенциозная, но достаточная для серьезного отношения к тому интересу к истинности (а не «истинности-в-кавычках») убеждений, которую обнаруживают не только ученые, но и обычные люди, корпоративные акторы (коллегии, жюри, организации) и институты, социологическая концептуализация знания как обоснованного (в указанном выше экстерналистском смысле) убеждения, в истинности которого убежден его носитель. Это небольшое, на первый взгляд, уточнение, отнюдь не исключающее возможность исследования случаев сознательного или не вполне сознательного искажения и манипулирования высказываемыми убеждениями и прочими доксатическими состояниями, позволяет вернуть социологии знания независимую исследовательскую перспективу и почти утерянный предмет.
Когнитивная социология: от «забытых» классиков к междисциплинарным исследованиям «народной» науки об обществе
В недавней работе С. Тёрнера [47], посвященной анализу исторических предпосылок и перспектив встраивания социологических теорий познания в консолидированную «когнитивную нейронауку», обосновывается следующая точка зрения: социологическая теория XIX в. в лице ее наиболее влиятельных (О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер), как, впрочем, и сравнительно малоизвестных (Ч. Эллвуд, С. Паттен, Дж. М. Болдуин) представителей, пытаясь объяснить и устойчивые, и вариативные черты социальной жизни, в значительной мере опиралась на когнитивные и менталистские понятия, пусть, возможно, и слишком общие, не вполне проработанные и в ряде случаев не соответствующие современным научным представлениям (как в случае дюркгеймовских объективного коллективного разума и коллективной памяти). Однако последующий отказ от этих идей в пользу психологически сомнительных объяснений, исходящих из неокантианских представлений о «разделяемых предположениях» либо их более поздних концептуальных заменителей, подобных «дискурсу», создал куда более значительные трудности для социологической теории (подробный анализ этих трудностей представлен в книге Тёрнера [см.: 46]; см. также детальный анализ соответствующих проблем для целого класса теорий социального действия в: [3, 289–304]). Понятийная конструкция «дискурса», согласно Тёрнеру, представляет собой дальнейший «уход от ментального»: «Гирц сыграл центральную роль в переупаковке этих <неокантианских “предположений” > в дискурсивные термины (1973), а его последователи и преемники, подобные У. Сьюэллу (2005), повторяют эти лозунги. Однако они не дают себе труд объяснить, каким образом сознание или мозг могут быть “наполнены предположениями” <выражение ГирцаХ Сходным образом используется психологический язык в предложенном Бурдье объяснении практик, сконструированном в терминах диспозиций при сходном же отсутствии связей между этими терминами и психологически реалистичными механизмами» [47, 358].
Ранние попытки использовать когнитивные понятия и менталистский словарь в социальной теории, подобные концепциям С. Паттена [41] или Ч. Эллвуда [23], как показывает Тёрнер, были надолго забыты академической социологией в силу их связи с подвергавшимися резкой критике, во многом справедливой, идеями классического ассоцианизма, ранних версий эволюционной теории, теории инстинктов или учения о локализации мозговых функций. Так, в частности, попытка Эллвуда построить концепцию, объясняющую причинные механизмы эволюции социальных и культурных институтов и восходящую к дарвиновским идеям культурного отбора, стала жертвой общей критики представителями бихевиоризма психологии инстинктов (У. Макдугал и др.), на которую эта концепция отчасти опиралась в попытке объяснить механизмы, обеспечивающие направленный характер взаимного обучения в группе и передачи поведенческих образцов и культурных навыков от поколения к поколению. Концепция Эллвуда, рассматривающая динамическую природу социального как постоянно возникающего в процессах реципрокного межличностного взаимодействия – «взаимного обучения», во многом опередила свое время и может рассматриваться как предтеча некоторых идей современной социобиологии и эволюционной психологии, однако объясняя селективный характер процессов «взаимообучения» Эллвуд допускал, что направленный и неслучайный характер последних может поддерживаться с помощью эволюционно закрепляемых инстинктов, обусловливающих предрасположенность к усвоению просоциальных норм и социальному научению как таковому.
Идея группового отбора просоциальных культурных норм и образцов поведения первоначально была сформулирована еще Ч. Дарвином в «Происхождении человека» (1871 г.) [2]. Дарвин осознавал, что жертвенное и альтруистическое поведение может давать репродуктивное преимущество на групповом уровне лишь за счет вымирания индивидуальных носителей альтруистических черт, однако он не располагал такой теорией наследственности, которая позволила бы точнее описать условия, при которых общая динамика репродуктивного успеха группы в этих условиях оставалась бы положительной, невзирая на очевидное «негативное давление» естественного отбора на просоциальных индивидов. Одной из неудачных попыток решения возникающей здесь теоретической проблемы в психологии начала XX в. стала теория инстинктов как сложившейся под действием естественного отбора основы социальной жизни, своего рода двигателей просоциального поведения на индивидуальном уровне.
Теория инстинктов для Эллвуда была неким концептуальным заменителем современных неоэволюционных представлений о возможных механизмах культурного отбора, позволявшим решить вполне частную задачу объяснения селективности сохранения норм и образцов в социальной группе, однако этот проблематичный «встроенный модуль» в теоретической конструкции Эллвуда, никак последним не развивавшийся, характерным образом предопределил отсутствие интереса к его взглядам со стороны следующего поколения социологов [47, 363–364].
Развитие современной когнитивной науки и нейрофизиологии, по мнению Тёрнера, открыло перспективу укоренения необходимых причинных механизмов, объясняющих избирательную трансмиссию убеждений, социальных норм и навыков (а также природу миметического институционального изоморфизма, обозначавшегося в классической социологии тардовским термином «подражание»), в более правдоподобных объяснительных моделях, которые опираются на недавние открытия, подобные обнаружению так называемых «зеркальных нейронов» (первоначально – во фронтальных областях коры мозга), предположительно обеспечивающих возможность понимания и имитации целеориентированного действия. Другим примером потенциальной пользы новых нейрофизиологических методов и открытий для социальной теории, к которому обращается в своей статье Тёрнер, является использование функционального магниторезонансного картирования в исследованиях роли тех отделов мозга, которые обеспечивают возможность координации взаимодействия, подобных хвостатому ядру стриопаллидарной системы, вовлеченной в регуляцию научения и эмоциональную оценку поощрений и наград, в процессы оценки соблюдения норм в социальном взаимодействии и в получение удовольствия от наказания нарушителей последних [47, 367–368]. Иными словами, развитие когнитивной нейронауки и поведенческих когнитивных исследований рассматриваются С. Тёрнером как прямой путь к пересмотру и уточнению фундаментальных понятий социальной теории, подобных «действию», «норме», «диспозиции», «убеждению» и др., ведущему к более реалистической и «когнитивно правдоподобной» социологии.
Сходную позицию отстаивает и П. ДиМаджио, отмечая, что опора на идеи, методы и результаты, полученные в когнитивной психологии, позволит заполнить существенные лакуны в фундаментальной социологической теории и придать «спорам об исходных предположениях… более эмпирический характер» [21, 275]. Особую роль результаты когнитивных исследований могут сыграть в разрешении фундаментальных для микросоциологической теории вопросов теории социального действия (ibid.), а также, менее очевидным образом, в уточнении популярных в социологии методологических подходов – «помогая нам уяснить те смещения, которые встроены в способы, которыми мы собираем, интерпретируем и воспринимаем наши данные» [Ibid., 276].
К первому из этих тезисов мы вернемся далее, предложив сначала иллюстрацию второго, основанную на нашей собственной более ранней работе [4], в которой обосновывается перспектива более широкого использования методов и результатов когнитивной науки в разработке оригинального социологического подхода к исследованию обыденного сознания и «здравого смысла» социальных акторов, а также выявляются специфические теоретические и методологические трудности, стоящие на пути этого подхода.
Удобной отправной точкой для обсуждения данной иллюстрации может служить предложенная в цитируемой работе ДиМаджио аналитическая схема для классификации основных направлений, в которых сейчас развивается проект когнитивной социологии [21, 274–275, Fig. 15—1]. Одно из измерений классификации образовано достаточно условным противопоставлением «автономной когнитивной социологии» (т. е. проектов, подобных оригинальному социально-конструкционистскому проекту когнитивной социологии Э. Зерубавеля, описывающего как общество, а не человеческая природа (в том числе устройство психики как таковое) предположительно формирует «ментальные ландшафты» и разделяемые образцы мышления, классификационные схемы, а также предопределяет эффекты нисходящих влияний социальных установок и «локальных структур значения» на память и внимание [48]) и, с другой стороны, «когнитивной социологии, базирующейся на когнитивной психологии» и изучающей социальное познание в контексте идей и методов когнитивной науки (например, идеи модулярности психики, т. е. существования достаточно универсальных, врожденных модулей, подобных, например, так наз. имплицитной «наивной теории сознания», необходимой для восприятия интенциональных действий). Другое измерение основано на дихотомии «исследований, фокусирующихся на содержании нашего мышления», в качестве примеров которых ДиМаджио упоминает исследования динамики общественного мнения и процессов формирования информированных суждений и воспоминаний обычных людей о социальных и политических событиях или личностях, либо интерпретации ими смысла социальных отношений, в частности [24; 42], и, с другой стороны, «исследований, фокусирующихся на том, как мы думаем», на формах восприятия и мышления, примером которых, помимо уже упомянутых работ Зерубавеля, служат дюркгеймовские «Элементарные формы религиозной жизни» (1915).
Именно та традиция, которая в описанной классификации может быть отнесена к «автономной» и «фокусирующейся на формах мышления», восходящая, в конечном счете, к Дюркгейму, служит важным источником и ярким примером специфических трудностей, приводящих к тому, что значительный прогресс в понимании роли обыденного причинного знания о мире в когнитивной науке и развитие методов его изучения пока не привели к сопоставимым изменениям в социологическом подходе к исследованию обыденного сознания и «здравого смысла» социальных акторов. В работе [4] приведены примеры потенциально важных для исследований обыденного знания о социальном мире результатов, полученных в последние годы в когнитивной науке, а также представлен анализ того, как стремление к «автономной», т. е. игнорирующей данные других наук, и в то же время формальной, т. е. ориентированной на выявление «исходных предположений» и априорных форм антинатуралистской (т. е. конструкционистской) исследовательской программе когнитивной социологии, консервирует давнее фундаментальное теоретическое предположение, препятствующее увеличению значимости вклада социологии в развитие междисциплинарных исследований «народной социальной науки» и различных форм обыденного социального знания, элементы которого зачастую сами превращаются в защищенные от проверки «исходные предположения» социальной науки.
Под конкретным фундаментальным предположением или, в свете того, что будет сказано далее, теоретическим предрассудком, здесь подразумевается восходящее к Дюркгейму убеждение социологов в том, что абстрактные категории причинности, подобно категориям пространства и времени, находятся «в тесной связи с социальной организацией» и являются не столько фундаментальными понятиями разума или элементами логических операций, сколько коллективными представлениями, генезис которых может быть объяснен только социологически [9]. Иными словами, социологи склонны, вслед за Дюркгеймом, считать, что ментальные категории причинности, пространства, числа, времени и некоторые другие имеют социальное происхождение, т. е. являются социально детерминированными и надындивидуальными коллективными представлениями, которые не столько определяют фундаментальные категории познания (в том числе, повседневного социального познания), сколько сами требуют объяснения посредством социологических категорий и социальных классификаций (отсюда частный тезис о том, что «классификация вещей воспроизводит классификацию людей»). Однако исследования познавательного развития детей и младенцев, особенно интенсивно развивавшиеся в последние десятилетия, позволяют уверенно утверждать, что в своей общей форме это теоретическое предположение неверно (обзор работ, имеющих отношение к дюркгеймовской теории социального происхождения ментальных категорий можно найти, в частности, в работе [13]). Способности несоциализированных младенцев воспринимать пространственную удаленность и глубину были продемонстрированы еще в экспериментальных исследованиях 1960-х гг. Позднее с помощью остроумных методических приемов были получены подтверждения того, что даже новорожденные способны ориентироваться в пространстве и координировать свои ощущения и двигательную активность по направлению к человеческому голосу Не менее интересны результаты, связанные со способностью не знакомых ни с какими социальными классификациями младенцев различать лица и ориентироваться на количество предъявляемых предметов, однако особенно важны в контексте нашего аргумента эмпирические подтверждения способности полугодовалых младенцев выделять наблюдаемые причинно-следственные отношения и оценивать пропорциональность причинного воздействия и результата [27]. До всякой социализации очень маленькие дети обладают элементарными категориями для восприятия причинности и простых количественных соотношений. Наша врожденная (хотя и поддающаяся развитию) способность выделять причинно-следственные связи на основе наблюдаемых статистических ассоциаций, строить непрофессиональные и не всегда осознаваемые причинные модели, учитывающие возможности множественности эффектов и ложной корреляции, представляет собой существенную объяснительную рамку, которую мы должны использовать в исследованиях социального восприятия, установок и общественного мнения, поскольку значительная часть нашего отношения к социальному миру выводима из нашего повседневного знания о нем. Это подтверждает точность давно предложенной Джорджем Келли метафоры «человека-с-улицы как ученого», основывающего собственные оценки, установки и ожидания на своих хорошо структурированных, эмпирически проверяемых и специфицирующих причинные связи «имплицитных теориях» – социальных, физических, биологических и др. Социальные сравнения, оценки и установки, социетальная реакция обычных людей на разного рода социальные проблемы – от душевных болезней до религиозного экстремизма – в значительной мере определяется таким неявным каузальным знанием. Следовательно, социологам нужно включить в свои объяснительные модели переменные, описывающие это обыденное знание.
Предложенная ДиМаджио типология – удобная отправная точка для обсуждения еще одного важного вопроса. Многие проекты «когнитивной социологии», возникшие на волне «когнитивной революции» 1970—1980-х гг. и последовавшего за ней бурного роста популярности соответствующей терминологии, по сути являлись не чем иным, как реконфигурированным в новых терминах наследием того самого неокантианского проекта социологической реконструкции «исходных предположений» и «ментальностей», который разрабатывался в классической социологии знания и предполагал скорее игнорирование, нежели освоение методов и результатов эмпирически ориентированной когнитивной науки. Последние же, по мнению Тёрнера и других, могли бы использоваться для коррекции ранее не проверявшихся фундаментальных предположений социологической теории[3] или при разработке оригинального социологического подхода к эмпирическому исследованию обыденного сознания и «здравого смысла» социальных акторов, предположительно конституирующих социальный мир. П. Стридом во вводной статье к специальному выпуску «Европейского журнала социальной теории», посвященному перспективам когнитивной социальной науки, отмечает, впрочем, вполне доброжелательно, эту особенность авторов, принадлежащих к первой волне так называемого «когнитивного поворота» в социологии, подобных К. Кнорр-Цетине и А. Сикурелу, С. Фуллеру и другим, которые опирались не только на непосредственных предшественников (П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гарфинкеля и др.), но и «на предшествующие давние традиции, такие как дюркгеймианство, герменевтика, феноменология, прагматизм, символический интеракционизм, критическая теория, социология знания и т. д.» [44, 340–341). Мы, однако, солидаризуемся здесь (и в уже упомянутых более ранних работах) с позицией С. Тёрнера, критикующего эти и другие попытки заместить реальную когнитивную социальную науку отреставрированными версиями спекулятивной социальной теории «ментальностей» и «предположений»[4].
Собственная попытка классификации «видов когнитивной социальной теории», предпринятая Стридомом, интересна, тем не менее, некоторыми дополнительными аналитическими измерениями, позволяющими нам уточнить то видение когнитивной социальной науки, которое представлено в описанной выше классификации ДиМаджио. Стридом опирается на введенное в 1990-е Даном Спербером различение «сильного» и «слабого» когнитивизма [43], примерно соответствующее преимущественному интересу к поиску нейронных коррелят и механизмов и, шире, эволюционно-биологических основ социального поведения либо, наоборот, преобладающей ориентации на эмпирический и теоретический анализ соотношения разных видов повседневного знания и механизмов их задействования в социальных взаимодействиях, осуществляемый с использованием поведенческих методов. В результате Стридом относит к первому, «сильному» когнитивизму позицию С. Тёрнера, формулирующего рассмотренный выше тезис о социологии как когнитивной нейронауке, а также, менее очевидным образом, Н. Лумана, последнего – в силу того, что его версия системной теории в немалой степени была «вдохновлена когнитивной биологией и исследованиями мозга», ко второй же – некоторых континентальных интерпретаторов теории рационального выбора (П. Фаро, X. Эссер) и Р. Будона, придающих особое значение понятиям убеждений, рассуждений, намерений.
Между двумя описанными позициями, однако, нет противоречия: «слабая» версия когнитивного подхода в социальных науках может (и, в перспективе, должна будет) принимать во внимание «сильные» данные нейрофизиологических исследований, подобные тем, которые приводит в качестве примеров Тёрнер (нейронные корреляты подражания и эмпатии и т. п.). Однако в текущей ситуации нам представляется особенно значимой именно вторая традиция, воплощенная, в частности, в когнитивистской теории моральных чувств, предложенной Р. Будоном [16, 17]. Последняя является одной из немногих попыток построить объяснительную социологическую теорию, описывающую логику принятия «решений о справедливости» обычными людьми. Согласно этой теории, оценивание индивидами справедливости решений или честности обмена является когнитивным процессом, сходным с оценкой истинности утверждений и основанным на сильных (хотя и не всегда осознаваемых) доводах (strong reasons), включающих в себя и известные социальным акторам факты о социальном мире, и выбираемые ими нормативные принципы. Как пишут Будон и Беттон, «…наша когнитивная теория утверждает, что субъекты чувствуют, что “X – честно” в том случае, если это утверждение воспринимается ими как выводимое из системы доказательств, которую они рассматривают в качестве сильной» [17]. Таким образом, данная теория описывает механизм перехода от субъективных убеждений о фактах и уместных в локальном контексте нормативных принципах к нормативному обыденному знанию о дистрибутивной справедливости, т. е. знанию людей-с-улицы о том, как правильно и справедливо распределять блага (или издержки). (Здесь и далее мы будем исходить из того, что «сильные доводы» и основанные на них системы рассуждений могут полностью либо частично осознаваться или не осознаваться индивидами, как и многие другие когнитивные процессы, реализуемые на уровне «бессознательных умозаключений» (Г.Л.Ф. фон Гельмгольц).) Однако данная теория моральных чувств пока представляет собой скорее общую аналитическую рамку, поскольку, за исключением некоторых предположений о принципах обыденного восприятия справедливости на макроуровне, не дает возможности систематически предсказывать нормативные предпочтения для иных контекстов социального взаимодействия. Вместе с тем, будучи дополненной типологией социальных контекстов, избирательно «задействующих» те или иные нормативные принципы справедливости, она открывает принципиальную возможность эмпирической проверки выводимых из нее следствий. Так, ранее мы предложили дополняющую когнитивистскую теорию моральных чувств типологию институциональных контекстов, предположительно позволяющую предсказывать и объяснять, какие именно нормативные принципы будут доминировать при интуитивной оценке обычными людьми дистрибутивной справедливости на микро-, мезо- и макроуровнях социального взаимодействия, продемонстрировав ее объяснительные возможности для вторичного анализа данных, полученных ранее другими исследователями [5], а также косвенно подтвердив ее в поведенческом эксперименте [6].